Я уж словно наяву слышу Ваш резкий, торопливый, низковатый для хрупкой фигурки (сохранилась ли Ваша удивительная талия после родов? У меня – увы, расползлась, особенно снизу, что твоя квашня!) голос:
– Ну, Машенька, за чем же дело стало? Что вы жалитесь – делайте скорее! Хоть мыловаренное, хоть салотопенное… или что там у вас еще!
Увы мне, Софи! Коли был бы жив Иван Парфенович, так он и не замедлил бы пустить все в ход, развернуть дело хоть в одну сторону, хоть в другую. Но я-то – не он! Я ж и на лодке-то толком с веслами управляться не умею. А рулить в шторм папенькиным кораблем мне и вовсе не под силу кажется. Да еще вести его незнаемым путем, на котором и фарватер не размечен и маяки – абы как… У Вас уж следующий вопрос на подходе:
– А что ж мужчины ваши? Петр Иванович? Дмитрий Михайлович?
Петя все тот же. Охотник и следопыт. Не дурак выпить. Счастливый отец трех диковатых, но впрочем, вполне здоровых и бодрых малюток. Как-то договаривается и по-своему обожает Элайджу (замужество и материнство не изменило ее, и уж ничего, по-видимому, не изменит). Но – и только. Делами занимается, скрепя сердце и едва ли не скрежеща зубами. Ждать от него предприимчивости и каких-то инициатив, что летом в степи – снега.
Митя же… Не знаю, имею ли право писать, но ведь Вам-то – все равно, что в никуда. За все семь лет только одно письмо от Вас и получили, и уж вряд ли еще придет.
Боюсь, как бы обрушившиеся на него волею судьбы испытания не сломили в нем чего-то главного, того, на чем в человеке все и держится. При том и не испытания сами по себе (любой, даже самый сильный, но короткий удар, он, по-моему, выдержал бы с честью), а вот это состояние неопределенности, бесконечно длящейся и незнаемой опасности, если Вы еще помните и понимаете, о чем я говорю.
Уже который год в лесах наших промышляет и бесчинствует банда Сергея Алексеевича Дубравина, иначе именуемого Черным Атаманом. Каково? Знаю, что Вы Митю нынче не любите и любить не в силах, но все же – попробуйте вообразить себе его жизнь…
Я поддерживала и поддерживаю его как могла. Иногда мне мнится страшное: как будто бы мои к нему чувства, о которых я думала – на всю жизнь хватит и еще с запасом останется – сносились, словно дорогое, шелковое, в кружевах белье (вполне в Вашем духе сравнение, согласитесь). И что ж? Спасаюсь пока искренней молитвой и покаянием.
Владыка Елпидифор, Божьим произмышлением и на мое счастье, жив, и каждая с ним беседа – как обожженное место в прохладную воду опустить. Жжет сначала, а потом – такое облегчение несказанное… Каждый день молюсь Господу, чтоб дал ему здоровья и долгих лет жизни! Остальные же наши священники суетны и в мирском погрязли, взять хотя бы и то, что ждут не дождутся, когда владыка представится.
Вы помните, быть может, что поповна Аграфена, дочь отца Михаила, при Вас уже была помолвлена с семинаристом Андреем, сыном священника Успенской церкви в Ялуторовске. Так вот, теперь Андрей закончил семинарию, женился на Фане и был рукоположен. Отец Андрей – странный молодой человек, и странных для священника взглядов. Но при том – честен и в делах веры христовой радетелен вполне. Не последняя роль в его странностях принадлежит усилиям господина Коронина со товарищи, ну да Бог судья им всем. Если говорить кратко, то отец Андрей покудова помогает в соборе владыке Елпидифору, который его всячески привечает, и необычности взглядов, кажется, не замечает вовсе. Теперь, стало быть, вопрос места. Оба отца-священника, Андрея и Фани, метят после смерти владыки понятно куда. А он как бы не захотел молодого Андрея. К мнению старейшего владыки, сами понимаете, здешние церковные власти поневоле прислушаются. Стало быть, конфликт отцов и детей, как у господина Тургенева. И так это суетно и для души неприятно… Ведь в церковь-то и ходишь за утишением страстей мирских! А тут как позабудешь, если то Фаня прибежит пожалиться, то тетенька Марфа с Ариной Антоновной, женой отца Михаила, поговорит, а после все обстоятельно перескажет…
Фаню, впрочем, жаль. Андрей – отчаянный книжник и тяготеет ко всяческим идеям. А более – ни к чему. Фаня же, как Вы, наверное, помните («наша сдобная Фаня» – Ваше определение), вся по эту сторону, желает любви, пустых развлечений, вкусной еды, веселых песен и плясок. Для попадьи все это разом – невместно. Вот Аграфена и страдает, и вываливается зрелыми телесами за пределы положенного, и чем все это закончится – неизвестно. К тому ж Фаня, увы, неумна, и ежели что, так даже и скрыть как следует не сумеет…
Принимаясь за это письмо, желала в душе написать что-нибудь этакое – легкое, изящное, с блестками недюжинной образованности и ума, чтоб Вы прочитали и воскликнули, подняв палец: «Ого! Как они там, однако, в Сибири, недурны!» Одно время даже цитаты в специальный блокнотик выписывала, чтоб вставить и блеснуть при случае. Бред и тщеславие пустое, тема для беседы с владыкой. Текущих, ежедневных, неважных, но прилипчивых и неизбежных дел столько, что открыв поздно вечером книгу, засыпаю прямо с нею в руках. Сны снятся в столбик, словно списанные из конторских книг.
И вопросы, за Вас придуманные… Не стала б Софи, сколько я Вас помню, про мужчин спрашивать. Это моя собственная, Богом, быть может, обустроенная для женщины тяга: отыскать кого-то, кто сильнее тебя, и не вовсе к тебе безразличен, и переложить на его плечи часть своих тягот. И вздохнуть с облегчением, и ощутить себя наконец женщиной. «Да прилепится жена к мужу своему». Вот сейчас слышу Ваш именно смех и язвительную филиппику по поводу глагола «прилепится». Кто ж еще, кроме Софи Домогатской, стал бы смеяться над словами Писания?! Тщета надежд и упований… Подлинно цельные личности, вроде Каденьки, Вас, да и, пожалуй, Веры Михайловой о таком и не думают. И что ж – счастливы вполне? Хотелось бы знать…
Теперь приехал к нам из Петербурга новый инженер – Андрей Андреевич Измайлов. Не было еще случая спросить его, не встречался ли с Вами. Но это, как я понимаю устройство петербургского общества, вряд ли, скорее вы вращались в кругах весьма различных, и интерес мой тщетен окажется.
Пишете ли Вы нынче? Понимаю, что замужество, вынашивание и рождение ребенка тому не способствует, но как Вы – человек во всем незаурядный, так может быть… Коли что-то новое выйдет, не сочтите за труд, пришлите нам сюда хоть одну книжку. Мы все будем рады и горды. Вам, должно быть, это забавно покажется, но здешний немногочисленный образованный люд (с Каденькиной, по-моему, подачи) считает Вас егорьевской писательницей. Логика тут, видимо, в том, что свой первый роман Вы написали на нашем именно «матерьяле». И можете смеяться тому, сколь Вам заблагорассудится. Мы все одно не услышим.
Связь через Ваш роман с Петербургом установилась у Любочки Златовратской, младшей из Каденькиной семьи. Помните ль ее? В Ваше время была совсем ребенком, а нынче расцвела прелестью и злостью, и что из того в нашем краю, где на первый номер ценится основательность земного прикрепления, выйдет – никто не ведает. Когда-то, сразу после выхода Вашего романа, пришло в Егорьевск из Петербурга трогательное донельзя письмо – от петербургских мещаночек – сестер Козловых. Ирина и Алена, если я правильно помню, одних лет с тогдашней Любочкой. В письме девочки выражали скромную надежду вступить в переписку с прототипами указанного романа, и узнать еще какие-то подробности. Нормальное такое, девическое любопытство, желание заглянуть в щелку. Поскольку конкретного адресата у письма не было, его вскрыли на почте, и все дружно над маленькими мещаночками посмеялись. Однако, Любочка смеяться не стала, письмо с общего согласия утащила к себе, и – ответила сестрам пространным и доброжелательным посланием. Так завязалась переписка, которая длится и по сей день. Сестры выросли, одна из них уж замужем. По лукавому сочетанию обстоятельств, как раз за почтовым чиновником. Младшая учится на каких-то курсах. Обе отличаются недюжинной наблюдательностью и ловкостью в обращении со словом (иногда Любочка вслух зачитывает нам выдержки из писем, и я могу судить). Младшая к тому же имеет почти мужской, острый и иронический склад ума. Отчего Любочка уж столько лет длит эту переписку? Может, имеет какие-то, никому в городе не известные планы, может, хочет почесать коросту несбывшихся надежд. Мне ее жаль, так, как жаль бывает убитую охотником лису или куницу.
На сем кончаю, ибо и так, должно быть, утомила Вас пересказыванием ненужных Вам подробностей здешней жизни. Впрочем, мне помнится, что Вы как раз не абстракции любили, а детали, и из них видели составленной людскую жизнь. Но ведь столько лет прошло, даже подумать страшно и посчитать…
Остаюсь искренне Ваша Машенька Гордеева»
Глава 13
В которой Шурочка Гордеев покупает крысу, попадья набивается в полицейские агенты, а Вера Михайлова встречается с Никанором
Лисенок, Волчонок и Зайчонок невесть каким способом отловили (или взяли из гнезда – узнать у них подробности не представлялось возможным) молодую бурую крысу и сумели ее приручить. Крыса стала ручной совершенно, позволяла заворачивать себя на манер младенца в платок, спокойно сидела на руках или на плече, ела протянутые ей куски лакомства и вовсе не боялась людей. Нынче звериная троица прогуливала свою крысу в общем дворе. На крысе, как на маленькой шавке с картинки, был надет тоненький поводок со шлейкой, видимо, изготовленный руками Элайджи. На шее крысюка красовался шелковый, аккуратно завязанный бантик. Зверек неторопливо, явно ничего не боясь, ходил по истоптанному снегу и деревянным мосткам, нюхал что-то в щелях и иногда смешно скреб снег крохотной розовой лапкой. Все проходящие через двор и наблюдающие эту картину люди улыбались, несмотря на почти инстинктивную ненависть сельских жителей к крысам. Впрочем, добродушный, упитанный, вальяжный зверек и на крысу-то похож не был.
– Мама, мама, я его хочу! – истошно закричал Шурочка, вбегая в кабинет.
– Кого, Шурочка? – Марья Ивановна оторвалась от конторской книги, положив деревянную линейку на нужную строчку. С любовью взглянула на взволнованного сына.
– Я его уже с утра хочу, а тебя все не было! Я уже скоро лопну!
– Да погоди лопаться! – улыбнулась Маша. – Лучше объясни толком, что тебе надо.
– У Лисенка и других – крыса! – послушно затарахтел Шурочка. – Да не такая, как в амбарах, не думай. Тех убивать надо! А эта – другая: большая, красивая и добрая. И с бантиком, и на поводке. Она у меня кусочек сыра в лапки взяла и съела. Я ее хочу! Сейчас!
– Но Шурочка, – Марья Ивановна наморщила лоб, не слишком, после долгого дня, разобравшись в ситуации. – Ну зачем тебе эта гадость! Лиза с Юрой вечно какие-то глупости придумают… Подумать только, крыса на поводке… Фу!
– Хочу! Хочу! Хочу! – Шурочка затопал ногами. Слезы брызнули у него из глаз так, как будто бы где-то внутри заработал маленький насос.
– Подожди, подожди! – Машенька вскочила. Более всего она боялась, что Шурочка сейчас начнет задыхаться. А у нее даже мунуков корень не заварен! – Давай спокойно разберемся. Ты хочешь себе эту крысу. Зачем?
– Я буду с ней гулять, кормить ее, играть, – тут же ответил Шурочка. Видно было, что он предвидел этот вопрос и успел подготовиться к ответу на него.
– Но живая крыса – это вовсе не игрушка. Она может укусить…
– Их Крыс не кусается совсем. Он ручной. Его Зайчонок в платок заворачивает и нянчит…
– Ладно, пусть так. Но ведь Крыс, как ты его называешь, принадлежит Юре, Лизе и Ане. Они его где-то поймали, приручили и тебе ни за что не отдадут.
– Отбери у них!
– Это невозможно, – твердо сказала Машенька, уже представляя себе ужасную картину, как она униженно уламывает Петю и все его семейство отдать ей крысу, элайджины звереныши угрюмо качают головами, а Шурочка с посиневшими губами лежит в кроватке в своей комнате и в груди у него страшно свистит…
– Возможно! – сказал Шурочка и еще раз топнул ногой. Он гневно сопел, но в целом дыхание оставалось пока нормальным.
– Тогда иди сам, и проси их, – неожиданно нашлась Машенька. Возможно, если неудачу потерпит он сам, то и реакция, как в басне Ивана Крылова, будет иной: «Зелен виноград, не больно-то и хотелось».
– Хорошо, – неожиданно и сразу согласился Шурочка. – Только ты иди со мной. На всякий случай.
Право, Машенька имела другие планы на этот вечер и в неудаче миссии не сомневалась ни минуты, но если Шурочка просит…
В Петином доме пахло псарней. Все четыре Пешки набились в сени и тыкались мордами, мотая хвостами. Шурочка жался к ногам матери – собакам и особенно лошадям он не доверял совершенно. Тем диковинней выглядела его неожиданная страсть по крысе… «Может быть, все дело в том, что у них – есть, а у него – нету?» – трезво подумала Маша.
– Иди, разговаривай! – она чуть резче, чем хотела, подтолкнула сына в спину. Он оглянулся удивленно, но выяснять отношений не стал, слишком был захвачен предстоящей задачей.

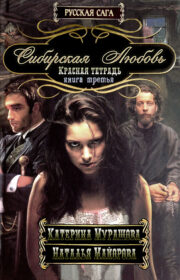
"Красная тетрадь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Красная тетрадь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Красная тетрадь" друзьям в соцсетях.