Никанор опять замолчал, переводя дыхание. Вера смотрела со спокойным ожиданием. Но уж ни бежать, ни трястись от страха не думала. Собаки своим собачьим чутьем уловили спад напряжения между людьми, осели на снег тяжелыми задами и вывалили языки, не спуская, между тем, взглядов с хозяйки.
– Получается, что все то время, пока Коська зверем полудиким по тайге да по барабинским березнякам шарился, чутье-то его золотое не дремало, а вовсе даже работало… Только мысль у него в голове такая была: зачем говорить кому, если все равно у Коськи все отберут?
– Да он же по пьяни-то, небось, не запомнил ничего? – с сомнением сказала Вера. – А то и вовсе привиделось…
– Я о том же подумал. Времени осеннего немного было, прогулялись мы с Коськой по тайге. Потом – к Черному Атаману. Черный Атаман у нас, помнишь – кто?
– Помню, конечно.
– Так вот он пробы посмотрел, со своей колокольни там покумекал и из шести мест сказал: три – наверняка. Остальные – надо торф вскрывать, глядеть. Одно место – на границе со степью. Два – в тайге. Атаман с Коськиных да с моих слов даже карту нарисовал, и план, с чего начинать, да как разрабатывать, да какое оборудование потребно… Ему, сама понимаешь, в охотку да в интерес…
– Он – бешеный. Ты его здешние дела все знаешь? Пока тебя не было?
– Да, знаю. И – правда твоя. На его месте многие ума бы лишились. И он – не устоял. Я уж видал. Иногда, как прежний, живет, ходит, говорит. А иногда – находит на него…
– Черного Атамана пристрелить надо, как собаку, когда взбесится. Мне нынешний Опалинских инженер рассказывал, Измайлов… Сколько крови на нем!
– Я сам, знаешь… Не мое это дело, суд между ними вершить. Пусть уж сами как-нибудь, без меня… А что ж с Хорьком-то?
– Да я как-то не поняла тебя, Никанор. В чем предложение-то твое?
– То, что Атаман сам лицензию брать не будет, торф вскрывать не станет и всякое такое – это понятно?
– Понятно, чего ж тут не понять? Но ведь и нам с Алешей не подарит. Или ты надумал у него Коську и план этот для меня украсть? Да мне такое с приплатой не надо – у меня дети, ты не забыл? Чтоб я их под этого безумного Атамана, твоего выкормыша…
– Нет, нет, Вера, все не так. Я, когда все выяснил, сумел Атамана убедить, что ни ты, ни Алеша с ним напрямую никогда дел иметь не станете.
– Да уж само собой! – усмехнулась Вера. – Чего мне с разбойниками-то делить?
– Однако и выгоду свою вам упускать резону нет. Я же – давний твой знакомец…
– И что ж в остатке?
– Ежели ты с Коськой Хорьком и атамановым планом в кармане откроешь хоть один, хоть сразу три прииска, то доходы ваши сразу возрастут… понимаешь ли, как?
– Понимаю, – в Вериных глазах, как в окошечках, запрыгали цифры. – А атаманов интерес?
– Проценты с золота, что ж еще? Охрану на пути в Китай или еще куда – опять же он обеспечит.
– Три разбойничьих прииска, и еще собой расплатиться с мужниным убийцей… Ты на что меня толкаешь, Никанор? – задумчиво спросила Вера, взвешивая что-то на невидимых мужчине весах.
– Я не убивал инженера. Тебя, было, – хотел, когда вас обоих телешом в снегу увидел, его – нет, никогда. Он неправды не творил и любил тебя… Как и я… Так каков же твой ответ?
«Если я сейчас отвечу «нет», как он поступит? – рассуждала Вера. – Не потеряет ли голову? И надо ли впрямь сразу отказываться? Никанор, похоже, не врет. Стало быть, этот Коська Хорек и найденное им золото и вправду существуют. Черному Атаману при всем его безумии тоже врать не резон. Не велика ли цена – разбойникам платить и каждого куста бояться? Но это можно и потом решить, когда золото в наших руках будет. Разбойники – что ж, люди лихие, но и сами под ножом ходят. Сегодня они есть, а завтра, глядишь, и нету…»
– Вот что я тебе скажу, Никанор, – решительно подытожила свои размышления Вера. – Предложение твое интересное, но только сразу что-то порешить я, как ты сам понимаешь, не могу. С золотом до весны – ничего не проверить. Да и денег у меня таких, чтоб все самой поднять, нету. Надо нам с Алешей капитал объединять. Стало быть, с ним советоваться насчет условий…
– Насчет всех условий? – усмехнулся Никанор.
– Не знаю! – Вера сердито мотнула головой, снег с платка просыпался за шиворот, растаял на шее… Женщина поморщилась, а Никанор протянул руку, чтобы достать оставшийся снег. Вера шагнула назад. Бран предупреждающе зарычал.
– Не надо, Никанор, – тихо и успокаивающе сказала Вера, сама протянув руку к мужчине и застыв в величественном полужесте, как парковая скульптура. – Если ты меня сейчас коснешься, он прыгнет. И я уж ничего не смогу изменить. Чужим трогать меня нельзя, это они сами решили. В них половина волчьей крови, оттого – нервные. Натура у них неустойчивая, то волчья кровь потянет, то собачья, и ни к кому прибиться не могут, все им чужие. Полукровки все такие… Вот, вроде Опалинских, понимаешь?
– Отчего же Марья с мужем – полукровки? Не понимаю. Вот инженер твой – тот да…
– Матвей святой был, это по особому счету идет. А Опалинские – они между мирами застряли. Наш с тобой мир, крестьянский да торговый – это одна сторона. Софья Павловна моя, отец ее, брат, барышня Элен – это другое. В каждой стороне – свой закон, своя сила. А эти… Ни туда, ни сюда… А Матвея Александровича, коли хочешь со мной еще дело иметь – не трожь…
– Ладно, только – melior est canis vivus leone mortuo. (живой пес лучше мертвого льва)
Вера запрокинула голову и захохотала, некрасиво открывая десны и небо. Поперек ее белой шеи шла одна, довольно глубокая морщина, как будто бы кто-то когда-то пытался перерезать Вере горло и потерпел в том неудачу.
– Однако удивил, Никанорушка!
Никанор усмехнулся в ответ.
– Я же говорю, много о твоих привычках узнал…
Снег продолжал лететь наискось, в такт кривящимся на губах улыбкам людей.
В эту ночь, безлунную и беззвездную, Бран выл, сидя посередине ближайшей к поселку поляны. Будучи всего лишь полуволком, он делал это крайне редко, но с началом его воя все поселковые собаки без исключения прятались в будки и под крыльцо. Медб, дрожа и поскуливая, прислушивалась к вою брата из сеней дома. На улицу она не выходила. Бабы в поселке крестились, и кутали детей. Мужики хмурились и припоминали казачьи разъезды и прочие дурные приметы. Бран выл.
Примерно через четверть часа ему ответили с северных отрогов Неупокоенной лощины.
Глава 14
В которой инженер Измайлов охотится, Шурочка принимает ставки, а попадья Аграфена пишет письмо в Петербург
Престранные дела творятся в здешнем уезде, и я их пока разобрать никак не могу. Может быть, и даже наверное, кто-то из здешних образованных людей понимает в происходящем более меня, и объяснил бы мне, если бы я сумел с ним сообразным образом стакнуться. Да я неловок и скован, и после всех лет, проведенных на службе у революции, как бы не совсем потерял навык обращения с собственным классом. Смешно, но с «простыми людьми» мне общаться куда легче и как-то сподручнее. Среди них уж у меня завелись хорошие знакомцы, и едва ль не душевные приятели. Но они, в свою очередь, ничего не понимают в явно зреющих вокруг событиях, хотя животным каким-то чутьем и знают о них, и тревожатся по-своему. Интересно, но здешние господа ссыльные, народовольцы или кто они там, с «народом», за который они как бы непрерывно радеют, разговаривать не умеют совершенно. Гавриил Кириллович еще туда-сюда, а уж Коронин, если придется общаться с «простым», цедит слова и глаза прячет так, словно только что спер гривенник из кармана визави. Это, пожалуй, было б и забавно, если бы не отчетливый дух грядущей кровавой трагедии, который мне давно уж мнится за этой очевидной нестыковкой.
Златовратские, Опалинские, Полушкины, оба почтовых чиновника, служащий метеорологической станции и даже семья старшего священника – все они, по-видимости, хотели бы установить со мной светское общение и ввести меня в здешнее общество. Да я не даюсь, поддерживая тем самым легенду о нелюдимости здешних инженеров, общающихся исключительно со своею тетрадью. Кроме нее, единственный мой постоянный собеседник – Иван Притыков, едва ли двадцати лет, как я сумел понять – внебрачный сын Ивана Гордеева от Настасьи Притыковой. Марья Ивановна (при молчаливом согласии Петра Ивановича) приблудыша признала уже после смерти их общего отца, выучила в четырехклассном училище и пристроила к семейному делу в той его части, которая не касается до приисков. Молодой Иван напоминает мне молодого Полушкина. Та же диковатая жесткость в сочетании с непонятной, неглубоко скрытой мечтательностью. Оба молодых человека при необходимости мечтательность свою затыкают за пояс, дела ведут хватко, говорят мало и четко, оба любят книги, и по-своему, вскользь и беспорядочно, могут считаться начитанными. Полушкин тяготеет к естественнонаучным теориям и умозаключениям, Притыков ориентирован более практически и, я бы сказал, экономически. Оба, на мой взгляд, на порядок превосходят господ политических в здравости мышления и укорененности на здешних, сибирских реалиях и почвах. При том, молодой Полушкин как-то в минуту откровенности признался мне, что, ежели бы не открывшиеся после бегства старшего брата потребности дела, давно уж, в юных годах, бросил бы здесь все и отъехал в Петербург в Университет, учиться на естественном отделении.
– Многощетинковых червей изучать? – не удержался я от ехидства.
– Отчего же так? ТО – Ипполита Михайловича Коронина вотчина, – спокойно парировал Василий. – Меня, было, отряд Formica класса Insecta более интересовал.
Нынче Вася в свободное время вместе с метеорологом Штольцем творит какие-то сводные статистические погодные таблицы и привязывает их ко времени отлета птиц, нереста отдельных пород рыб и тому подобным захватывающим вещам. Говорить с ним интересно, но слегка напряжно, вроде как все время ищешь внутри себя, как в сундуке, какую-то такую часть, которая бы на потребу Васе сгодилась и подошла, как ключ к замочной скважине. При всей его деловой хватке есть в нем что-то от юродивых, и право, хочется его, как и его учителя Коронина, из здешних мест изъять и отправить в Петербург к червям, к чертям и этим загадочным «формикам» (впрочем, Надя потом объяснила мне, что это всего лишь обыкновенные муравьи).
Иван же Притыков куда проще. Он копит деньги в горшке, мечтает о своем деле и, кажется, втайне ненавидит снисходящих к нему сводных сестру и брата. Ко мне он прилепился практически сразу по моем приезде, и готов учиться всему, что я соглашусь ему преподать. Расспрашивает о том, как устроено российское государство, банки, кто может взять заем, что можно увидать в почвенном раскопе, как отличается железная руда от медной, кто правит в Китае, отчего при смешении самоедской и русской кровей рождается так много уродов, и правда ли, что в городе Париже все дома выше кедров. Схватывает он, надо признать, на лету, и уж нынче в конторе от него едва ли не больше проку, чем от Дмитрия Михайловича. При том все свои обязанности по подрядам, извозу и т. д. Иван Иваныч выполняет вполне, и, кажется, вовсе никогда не спит. Местами его жизненная сметка и схватка меня даже пугают, но это в любом случае лучше расслабленности и безволия абсолютного, каковым многое здешнее население страдает изрядно.
От моего собственного безволия проистекло то, что Гавриил Кириллович сумел-таки привлечь меня сначала к теоретизированию, а потом и к практическим шагам по изданию некоего «Сибирского листка», в котором, по мысли создателей, излагаются последние достижения свободной мысли в применении к сибирским реалиям. Писать для «Листка» статьи я отказался сразу и категорически, ибо здешним материалом не владею совершенно. Однако, консультациями моими в результате пользовались все, даже господин Коронин, собственный слог которого сух, наукообразен, и для неподготовленного к такой манере человека практически нечитаем. Кроме практических материалов и пересказов теоретических работ, в «Листке» публикуются с продолжением материалы по истории Сибирской ссылки и, в частности, Тобольского централа, собранные Романом Веревкиным. Материалы, надо признать, не лишенные интереса, я сам прочел их с удовольствием, отредактировал и заострил некоторые места, чтобы сделать всю статью выигрышнее и завлекательнее для будущего читателя…
Вот так! Из вышесказанного с очевидностью следует, что все мои постановления ничего не стоят, и каждый, пусть хоть Давыдов, пусть младой Иван могут меня использовать таким образом, как им угодно, а я буду плясать под их дудку, как петрушка в ярмарочном балаганчике. Да, по-прямому на меня надавить невозможно, но если взять на себя труд поуговаривать, польстить в нужном месте и в нужной манере, сослаться на неоспоримую пользу и необходимую необходимость… В этом случае господин Измайлов неизменно тает, как весенний снег, и готов на все… Этим же пользуется и милейшая Надя Коронина. Понятно, что менее всего мне хотелось бы крутить интрижку под носом у законного мужа, каким бы ни было мое к нему отношение. Но… Наденька так убедительно страдает и ест меня глазами при каждой, даже случайной (случайной ли?) встрече, так мужественно глотает горькие слезы, и не говорит ничего плохого о своем муже-угрюмце… Я должен все сам понять. Я, разумеется, понимаю, и играю для нее в эту тягостную игру. Мне самому все мучительно и стыдно. Второпях натягивать штаны, выходить поодиночке, оглядываясь… Господи, да я попросту уже стар для всего этого! Она – легка, чиста и темнолика, как Лермонтовский ангел. Смятые покрывала, звериная грация движений, едва слышные всхлипы, следы острых зубок на моей груди и плечах, облегчение в чреслах и звон в пустой голове… Господин Измайлов, вы – трус и негодяй. Вы это знаете?

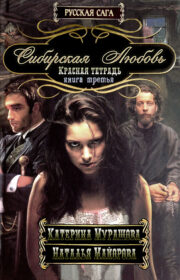
"Красная тетрадь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Красная тетрадь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Красная тетрадь" друзьям в соцсетях.