– Шурка-то… Шурка-то твой… Там… – вошедший Петя говорил, слегка задыхаясь, и словно запинаясь на каждом слоге.
Машенька, уже подозревая ужасное, отбросила расходную книгу, вставая, подняла глаза. Петю она узнала еще прежде, чем он вошел, по шагам, но продолжала писать, не глядя на дверь. Ничего интересного или хорошего от братниных визитов она давно уж не ждала. Но – Шурочка!
– Опять приступ?! – трагически вскрикнула Марья Ивановна и тут же поняла удивительное: Петя просто давился от беззвучного хохота.
Смех казался странным, но, поразмыслив, Машенька сообразила, что она просто не может припомнить, как должен смеяться Петя. Получалось, что, довольно часто и охотно улыбаясь, Петр Иванович никогда не смеется. Впрочем, думать об этом было совершенно недосуг.
– Ну, Петя, скажи скорее. Что там с Шурочкой?
– Ты пойди сама взгляни. Там, во дворе, – продолжая беззвучно разевать рот, предложил Петр Иванович. – Тебе, право, понравится. И Дмитрию. Монеток возьми, копеек…
– Зачем – копеек?! – удивилась Маша.
– Увидишь! – Петя сотрясся в последнем раскате своего диковинного хохота и вышел из сестриных покоев.
Внизу Машенька обнаружила домашних и едва ли не всю дворню в большом оживлении, сгрудившихся возле дровяного сарая. Что происходило внутри маленькой толпы, сначала было неясно. Но, что б то ни было, зрелище собрало вместе людей самых разных возрастов и темпераментов. Вся звериная троица, степенный Мефодий, болтливая Анисья, старенький Тиша и даже тетка Марфа с ее клюкой, – все они вытягивали шеи и нетерпеливо переступали с ноги на ногу, вглядываясь во что-то невидимое Марье Ивановне. Иногда все разом вдруг разражались неопределенными криками.
Что за диво?! – изумилась Машенька и, не торопясь, стараясь не привлекать к себе внимания, подошла поближе. Даже подойдя вплотную, она не сразу сумела разгадать представившееся зрелище. Лишь просмотрев несколько полных циклов, поняла механику дела. Она была проста, и вместе с тем эффективна до крайности.
Огромная доска, водруженная на невысокие козлы, была окружена по периметру небольшими деревянными домиками с дверями, выходившими в центр поля, но без крышек. На «полу» домиков краской были написаны разные цифры от 1 до 20. Середина деревянного поля оставалась свободной. Распоряжался всем происходящим чрезвычайно довольный и раздувшийся от важности Шурочка.
Желающие принять участие в игре ставили копейку на ту или иную цифру. После того, как все ставки были сделаны, Шурочка доставал из-за пазухи Крыса и сажал его точно в середину доски. Здорово растолстевший Крыс, украшенный все тем же бантиком, оказавшись на свободе, неторопливо умывался, облизывал шелушащийся хвост, а потом, раскачиваясь и сверкая розовыми пятками, направлялся ко входу в один из домиков. Наблюдавшие за ним люди всячески подбадривали его, уговаривали идти в нужном им направлении, давали зверьку советы. Крыс, который людей совершенно не боялся изначально, великолепно игнорировал собравшуюся аудиторию. Иногда, уже вплотную подойдя к входу в один из домиков (поставивший на эту именно цифру затаивал дыхание), он вдруг садился на толстый зад и принимался чистить усы. Потом вставал и, сопровождаемый разочарованными возгласами, двигался дальше по свободному полю.
Когда Крыс входил-таки в домик, игра считалась законченной. Поставивший на эту цифру забирал все деньги, кроме одной копейки, которая шла в пользу устроителя аттракциона. Если Крыс забирался в домик, на который не поставил никто, все деньги получал Шурочка. Кроме того, в игре был предусмотрен копеечный штраф для тех, кто пытался обманом обернуть ситуацию в свою пользу. Так, с общего согласия был на копейку оштрафован Волчонок, который кинул в «свой» домик кусочек мясной начинки из пирога. Потом оштрафовали Марфу Парфеновну, которая, как бы греясь, хлопала в ладоши, пытаясь испугать Крыса и не пустить его в «ненужный» им с Тишей домик.
Раскрасневшийся, сияющий глазами Шурочка был без шапки и без варежек, в расстегнутом тулупчике, под отворот которого он то и дело сажал своего зверька. У Машеньки зашлось сердце – простудится же ребенок! Решительно войдя в круг, она прервала забаву, закусив губу и уже ожидая очередной истерики, топанья ногами и падений на снег. Шурочка, однако, по-взрослому быстро сориентировался в ситуации, истерик устраивать не стал, отдал последний банк выигравшему конюху Игнатию, и посадил Крыса за пазуху.
– На сегодня все! – сообщил он собравшимся людям. – Крыс замерз и обедать хочет. Завтра еще поиграем.
Народ нехотя расходился. Волчонок, Лисенок и Зайчонок, присев на корточки посреди двора, все вместе пытались пересчитать выигранные и высыпанные на дощечку копейки, спорили и постоянно сбивались. Мефодий вызвался им помочь, пересчитал копейки и сообщил результат. Дети не поблагодарили взрослого и с недоумением переглянулись между собой. Они явно не знали, что теперь делать с полученной информацией.
Вечером Машенька со смехом рассказала мужу о Шурочкином «предприятии». Дмитрий Михайлович вернулся с прииска усталый и раздраженный, так и не приняв решение о возобновлении контрактов на Лебяжьем прииске, где пески были наиболее истощены. Рабочие смотрели искоса, наиболее смелые задавали вопросы, на которые ответов у него не было. Уже раздевшись и сидя на кровати с кружкой брусничного кваса, он выслушал жену и тяжело сказал:
– Ну что ж. Если по годам судить, видать, мошенник будет покрупнее меня.
Машенька буквально подавилась собственным смехом.
– Митя, так жить нельзя, – тихо сказала она время спустя. Супруги уже лежали в постели, не касаясь друг друга.
– Нельзя. Ну что ж мне, удавиться, что ли? – равнодушно спросил Дмитрий Михайлович.
Жалея и обижаясь одновременно, Машенька потянулась приласкать мужа. Он ответил на ее позыв, обнял расплывшееся после родов и беременностей тело.
– Ты хочешь? – тихо спросил в самое ухо.
Машенька молча кивнула. Она больше не могла быть одной. Отчего-то вспомнились усталые, зеленые глаза нового инженера.
Митя, не торопясь, поднял подол ее рубашки, провел ладонью по телу жены, словно совершая инспекцию (от этого его жеста Машенька всегда смущалась и ежилась), потом лег сверху. Несмотря на словесную просьбу, физически она была не готова принять его. Митя недовольно засопел, но, поелозив немного, справился с проблемой. Женщина закрыла глаза и отдалась его воле.
Окончив свое дело, муж скатился на бок, к стене (так они привыкли стать с тех пор, когда младенец Шурочка болел и плакал ночами, а Машенька по двадцать раз за ночь вставала к нему), заглянул в лицо жены.
– Ты хоть чего-то чувствуешь? – с проблеском интереса спросил он. – Зачем тебе это вообще?
– Разве можно так спрашивать? – с упреком сказала Машенька. Она в общем-то не сомневалась в любви мужа, но иногда ей казалось, что он специально хочет выставить ее смешной и нелепой.
– Отчего же нельзя? Все можно, коли… А! – Митя устало махнул рукой и отвернулся лицом к стене.
– Коли – что? – тихо, одними губами спросила Машенька.
Ее вопроса никто не услышал.
Здравствуй, драгоценная Сонечка! Нынче пишет к тебе Фаня Боголюбская из Егорьевска, с любовью и сердечным приветом.
Любочка Златовратская сказала мне, что у тебя родился малюточка. Господи, как же я тебя целую, обнимаю, и как тебе завидую! У меня, ты ж знаешь? – двоих драгоценных малюточек Господь к себе прибрал, и до годика не дожили. Горе-то какое! Отец с мужем велят: смирись, они души безгрешные и возле престола Его теперь, а мне-то как тоскливо… Так ребеночка хочется понянчить… А нынче и вовсе надежды нет, потому что муж мой, отец Андрей, вовсе со мной не ложится, а все читает, да служит, да долдонит про что-то несусветное, чего и разобрать нельзя. Мне говорит: ты, Фаня, дура, коли не понимаешь. Ладно, пусть так. Но Марья-то Гордеева не дура, нет? Вот я ее спрашиваю: ты это понимаешь, или как? А она: не бери, Фаня, в голову, это у них, у мужчин, заскоки такие… Ладно ей-то, у нее муж Дмитрий Михайлович все понятно, да ласково говорит. А мне как жить, если и ребеночка – нетути? Ты помнишь, Сонюшка, я все смешливая была, веселая, да ласковая. Попеть да поиграть, да поплясать – резвее меня не сыщешь. А теперь? Самой на себя в зеркало страшно взглянуть. Глаза, как у волчицы, горят. На щеках пятна. Чай с тоски пью по восемь раз на дню, да все с плюшками, уж ни в одну юбку не влезаю, все клинья вшивать приходится. Кто ж это такое с людьми делает? И как Господь попускает?
Вот ты, Сонюшка, – девица (а нынче уж баба) умная да ушлая, подскажешь может чего глупой Фаньке? А то – боязно мне, как бы греха не вышло.
Да и чего там с тобой темнить, Соня! Вышел уж грех, вышел, хотя вины моей в том, видит Господь, нетути. Петербург далеко, могу тебе пожалиться, а более – и рассказать некому. Пишу все до крошки, как на исповеди, чтоб тебе ясно было, докудова можно равнодушием женское сердце истощить и в какую бездну столкнуть.
Есть у нас в Егорьевске урядник, Карп Платонович Загоруев. Всем видный из себя мужчина. Особенно хороши усы и мундир. Кафтан темно-зеленого сукна, русского покроя с прямыми бортами, обшлаги и воротник с оранжевым кантом. На плечах – жгуты из оранжевого шнура с тремя позолоченными бомбочками. Шаровары с оранжевою выпушкою. Шашка, как у драгунов, на черной юфтовой портупее. Женат на дочери каменных дел мастера, двоих деток имеет.
Явился он к нам как-то с делом до Андрея. Андрей же с ним, не разбери почему, держался так, словно перед ним турок какой-нибудь или вовсе амалекитянин. Я чуть со стыда не сгорела за мужнюю враждебность. Старалась, понятно, как хозяйка, все сгладить, а после и вовсе пообещалась Карпу Платоновичу помочь в том, в чем ему Андрей-то отказал. Встретились мы с ним наедине, поболтали в охотку, и он мне уж на исходе часа сказал, что ежели б у него собственная жена хоть долей моего ума и женских чар обладала, то он… Кто когда мой ум хвалил? – ты вспомнишь такое? Вот и я не вспомню. А что до женских статей… Батюшка едва ль не с детства попрекал телесами и срамными нарядами (а я что, виновата, что всегда пышной была?), а нынче и Андрей – «разнесло тебя, Фаня, что корову, жрала б помене, что ли!» Не обидно ль слышать?
Далее тебе уж, Сонюшка, все ясно?
Стыдно ли мне? – спрашиваешь.
Еще как стыдно! Да, представь, не людей и не мужа, а жену и деточек евонных. Плачу и молюсь неустанно, но вспоможения душевного от Господа не видно. Да и не больно-то ожидалось, Он от таких, как я, видать сразу отворачивается. Магдалина-то она, конечно, – да, но ведь это когда было! Он же все это время на небе сидит, позабыл уж давно, что здесь к чему… Вот как владыка… Да, это я сейчас тебе расскажу. Смешно очень, может, тебе в твоих писаниях пригодится.
Владыка Елпидифор как-то у нас на церковный праздник гостил, отец с матушкой опять же пришли, все разговоры о Божественном, я уж засыпать стала потихоньку… А тут владыка говорит: «Старый я стал нынче… Многое забываю. Да это со всеми стариками случается. Вот слушайте такую историю: сидят на завалинке два старых-престарых деда. Вспоминают молодость. Один другого спрашивает: а помнишь, Кузьма, как мы с тобой в молодости за девками бегали? Другой отвечает: помню, как же не помнить! А тот, первый: Слушай, Кузьма, а зачем мы это делали, не припоминаешь ли?»
Отец просто шаньгой подавился, Андрей покраснел. Только мы с матушкой и посмеялись в охотку.
Я – грешница, Сонюшка, это теперь сомнению не подлежит, но как мне с этим обойтись, вот тут-то ума моего никак не хватает. Не бежать же на улицу с криком! Карпуша советует: живи как жила, делай вид, что ничего не было и нету. А это как же возможно, ежели я теперь – блудная жена?! Да еще не просто жена, а жена священника… Иногда думаю: покаюсь Андрюше, брошусь в ноги, пусть он сам решает. Даже и страху особого в том не вижу, да только… смотрит он как-то… словно в летний день в ледник заглянуть – холод, тьма да супом с капустой пахнет. Нету там ничего для меня, понимаешь ли, Сонюшка? Ни разрешения, ни покаяния, ни наказания, ни освобождения – ничего! Я иногда думаю: как же он другим-то грехи отпускает? Откуда сердечное тепло берет? А отец мой? Господи, прости! Видать, совсем я от стада Христова отбилась, коли такое помыслить в себе могу…
Какое тебе счастье, что ты замужем теперь. Про тебя-то, даже не зная, точно скажу: уж не родители тебе жениха искали, а собственного сердца зов. Никто и никогда тебя по-своему не повернет. За то тебя и люблю, драгоценная Сонюшка! Оттого к тебе и пишу. Ты ведь, я помню, в Господа нашего и вовсе не веруешь, значит, какую-то иную опору в душе имеешь. Научи теперь глупую Фаню, коли тебе не в тяготу покажется: как мне с собой совладеть? А я думаю неустанно: как же это с мной так обернулось-то?! Ведь семья-то у меня какая? – С детства все в духовном токмо наставляли, батюшка с матушкой сил и тумаков не жалели, все добру да смирению учили. Что ж мне не впрок? Телесный зов во мне всегда силен был, как себя помню. А теперь, как в зрелость вошла, так и вовсе – прямо сил нетути. И рассказать срамно. Так и крутит всю, и тянет, и ведет… А особливо если мужчина собой приглядный… Что ж это такое-то? Дьявол меня искушает? Или это у всех так? И как другие-то женщины обходятся? Лет уж несколько тому назад, когда с Андреем-то все ясно стало, я было у маменьки попробовала выспросить. Так она только обняла меня и заплакала так горько, что и я не удержалась, ее жалеючи, и про все позабыла. Поревели друг у друга в обнимке, на том все и покончилось.

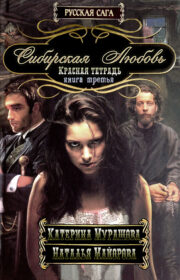
"Красная тетрадь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Красная тетрадь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Красная тетрадь" друзьям в соцсетях.