– То-то ты с детства страшные истории любила!… И я ему, стало быть, говорю: какой же я внешний идеал, когда меня даже муж коровой зовет? Андрей-то надулся сразу, а Измайлов твой улыбнулся спокойно и говорит: отец Андрей шутит. Он просто опасается за сохранность доставшегося ему бесценного сокровища. И любой бы на его месте опасался. Я бы – точно. Не знаю, у кого как, а мой именно идеал – женщина в теле, приятной полноты, с белой кожей и толстыми русыми косами, да еще чтобы вот так, как у вас, короной уложены… (Машенька мысленно прикинула идеал Измайлова на себя, и тут же укорила себя за это). Мой тут же так издевательски у него спрашивает: «А ум? Ум у вашего идеала предполагается? Или как?» «Ум – обязательно, – опять же спокойно отвечает инженер. – Только у женщин ум – это на большую часть ум сердца, а не рассудка. Вы согласны? Вот как священник скажите: верно ведь, что именно женщины способны на подлинно глубокую и искреннюю религиозность, без всякой примеси расчета и договорных отношений с Богом? Ведь так?»
Ну дальше они о чем-то таком говорили, чего я разобрать не сумела, но все вместе поняла так, что Измайлов Андрюше-то нос утер и насчет моей внешности и насчет ума. За то ему моя благодарность. Чем-то он мне в тот момент Соню Домогатскую напомнил. Она тоже кого угодно отбрить могла так, что и вздохнуть не успеешь. Но так Андрюшке и надо. Господи, прости!
Кстати, я Соне письмо написала…
– Ты? – удивилась Марья Ивановна. – И о чем же это, разреши узнать?
– Спросила, что она думает о грехе прелюбодеяния, – независимо ответила Фаня, комкая руками бахрому, свисавшую со скатерти.
– Что-о-о? – воскликнула Машенька. – О чем, о чем?
– О чем слышала, – огрызнулась Фаня и отвернулась.
Маша подумала, что в последнее время с попадьей явно творится что-то неладное. Сколько она знала Фаню, над ней всегда все подсмеивались, но она никогда не злилась и не отвечала на подколки других девиц. А теперь…
– И что же – она тебе ответила? – спросила Машенька, просто чтобы восстановить разговор с попадьей. Она лучше других знала, что Софи Домогатская не отвечала на письма из Егорьевска. Может быть, они до нее даже не доходили.
– Ответила, – кивнула Фаня.
– И… что ж?
– Она написала, что, по ее сведениям, это такой смертный грех, расположенный где-то между убийством и пожеланием осла ближнего своего. Подробнее она не знает, но советует мне не забивать себе этим голову.
Машенька усмехнулась и испытующе взглянула на Аграфену, соображая, дошла ли до попадьи ирония ответа, или она приняла его абсолютно всерьез.
Внезапно Фаня по собачьи прислушалась, склонив голову набок, потом встала из-за стола, прошла по анфиладе до конца машенькиных покоев, отодвинула тяжелую, темно-зеленую занавеску, и спокойно извлекла из ниши небольшую, уже знакомую Машеньке на этом фоне фигурку.
– Что это тут у тебя такое прячется? – с любопытством спросила попадья. – Гляди, рыженькая какая, точно лисенок.
– Это и есть Лисенок, – сказала Машенька и сильно сплела пальцы, чтобы не закричать. Более всего ей хотелось схватить девочку за плечи и трясти до тех пор, пока та не объяснит, зачем она раз за разом оказывается в ее покоях. Одновременно с тем Маша знала, что трясти этого ребенка бесполезно. – Выкини ее отсюда, – велела она Фане. – Да еще пинка дай, что неповадно было в чужой дом лазить. Мне самой хромая нога мешает.
Проезжая мимо знакомого сруба под красной крышей, Машенька увидела горящую в окне свечу. Мимолетом удивившись, кому понадобилось идти в собрание в столь неурочное время, она вдруг уловила знакомые звуки и немедленно велела Игнатию остановить повозку. Кто мог играть в запертом на ключ собрании на пианино? Ответ прост: никто. В привидения, русалок и прочую нечисть Маша давно не верила. Владыка Елпидифор называл все народные суеверия просто и точно: суета души. Марья Ивановна полностью разделяла эту точку зрения.
Уже подходя к дому, она увидела и нетронутый замок на двери и путь, которым неизвестный проник в собрание: в одной из форток было вынуто стекло. Само стекло стояло тут же, воткнутое ребром в оплавившийся сугроб.
Отрывистые звуки прекратились, но Машенькина злоба не унялась: кто посмел тайком и без толку портить инструмент, купленный еще покойным батюшкой? Злоба была напрасной и Марья Ивановна о том знала и помнила: играть на пианино было попросту некому. Ее муж, Дмитрий Михайлович Опалинский, бывший когда-то душой любой компании, постепенно, с годами, к «светской» егорьевской жизни охладел, сама же Машенька никогда и не была ее особенной любительницей. Свободное время она всегда предпочитала провести в церкви, очищаясь и утруждаясь душой. Пустая болтовня едва ли не с детства утомляла ее. В том Машенька видела свое отличие от прочих егорьевских кумушек. О хромой ноге нынче уж и не думалось. Странно ведь, если вспомнить, – сколько в юности было страданий! «Хромоножка, хромоножка!» – только о том и печалилась. А рояль папенькин всегда в тревогах выручал, музыка утешителем была. Сама по нотам играть выучилась, несколько лет упражнялась по часу в день обязательно, как молитвенный урок выполняла. А теперь? Совсем иные думы чело морщат. И к роялю уж не подходила… сколько? Месяц? Два? Полгода? Когда-то, больше года назад, вздумала учить музыке сына. Шурочка с любопытством потыкал пальчиком в клавиши, легко выучил ноты, бегал, распевая: «До, ре, ми, фа, соль, ля, си!» Но дальше этого не пошло. Упражняться и насиловать себя Шурочка не хотел совершенно. Если Машенька пыталась настаивать, падал на пол и истошно вопил. Дмитрий Михайлович морщился и зажимал уши ладонями.
– К чему ему в Егорьевске музыка? – недовольно спрашивал у жены. – Не хочет учиться и правильно делает. Пусть лучше учится считать…
Вечная тема их споров. Уезжать из Егорьевска Маша не хочет, а в Егорьевске без надобности все тонкое и красивое. Нужны лишь деньги, да изворотливость, да подряды, да шелушащиеся, как старое осиное гнездо, сплетни…
Господи, как же она устала! И некому, ну совершенно некому рассказать, пожаловаться. По правильному рассуждению, ее товаркой должна была бы стать жена брата Пети, но… о чем можно говорить с Элайджей?! Острая, как обломанный хрусталь, Софи ответила глупой Фане, но не отвечает ей – Машеньке. Скорее всего, это из-за Мити. Не хочет, чтобы ее письма попали к нему. А сам Митя все больше напоминает потухшую на середине свечу. Интересно, жалеет ли он теперь о том, что когда-то не ответил на любовный порыв юной Софи? Но ведь не спросишь!
И кто же все-таки залез в собрание через форточку? Уже почти зная ответ, Машенька подошла к ближайшему от угла окну и осторожно заглянула внутрь…
Проверяя себя, еще раз пересчитала маленькие фигурки. Все правильно – пять. Трое – дети Элайджи. А еще двое – кто такие? В Егорьевске, в знакомых семьях, вроде таких нет. Приглядевшись, Маша догадалась: должно быть, дети Веры Михайловой. Крупный, рыжеволосый мальчик – это, наверное, Матвей. Белокурая, хрупкая девочка – Соня. Но как они все познакомились? Сошлись? Ведь дети Элайджи почти не разговаривают с посторонними… И что они, в конце концов, здесь делают?
У открытого фортепиано стояли двое: Лиза и Анна. Малышка, привстав на цыпочки, тихонько тыкала пальчиками в басовые клавиши и прислушивалась к негромким низким звукам, а Лисенок как-то странно шевелила пальцами над клавиатурой. Матвей с любопытством наблюдал за ними. Соня сидела на полу напротив Юрия и что-то писала в тетради. Иногда она показывала ему написанное и что-то тихо спрашивала. Волчонок, запинаясь, отвечал. Извиняюще улыбаясь, Соня отрицательно качала головой.
«Да она же учит его читать!» – догадалась Маша, наблюдавшая за этой картиной.
Досуг детей выглядел совершенно мирным, если не считать способа их проникновения в дом. Но Маше все равно отчего-то было неприятно. При взгляде на Лисенка ее начинало даже отчетливо подташнивать. Чтобы избежать этого, она сосредоточилась на мальчиках. Это было легко сделать, так как Матвей как раз в это время подошел к Волчонку, присел рядом на корточки и стал что-то объяснять ему, тыкая пальцем в тетрадь. Юрию явно что-то не понравилось. Он встал и сумрачно взглянул на Матвея из-под спутанной копны волос. Соня что-то сказала брату, резко вздернув подбородок и блеснув глазами. Матвей тоже выпрямился и махнул рукой, собираясь снова уйти к девочкам у пианино. Мгновение, пока мальчики стояли рядом, чем-то буквально полоснуло Машеньку по нервам. Она замотала головой, пытаясь осознать причину внезапной острой тревоги, но не сумела поймать ее.
ЗАПИСКИ В КРАСНОЙ ТЕТРАДИ АНДРЕЯ ИЗМАЙЛОВА, ИНЖЕНЕРА.
Оказывается, всем на прииске абсолютно доподлинно известно, куда подевался прообраз моей тетради, и что в нем было написано. Жалко лишь то, что всем известно разное. Синтетическая версия не порождается никаким напряжением ума, но поселковый люд это явно не смущает.
«Но ведь, насколько я знаю, Матвей Александрович никому и никогда не давал даже заглянуть в свою тетрадь, – резонно говорю я. – Откуда же вы знать можете?»
– А он рассказал.
– Кому же?
– Да Кольке Веселову, покойнику.
– Простите, но ведь я слышал, что именно конфликт Печиноги и Веселова, и последующая смерть Веселова послужили поводом для бунта, во время которого Матвей Александрович был убит.
– Бес попутал. А с Колькой они заодно были. Вон, инженер и на похороны его приходил, венок принес и речь сказал про свободу. Зачем бы ему иначе? Врать-то Печинога, в отличие от других господ, сроду не умел – это всем известно. А все другое – это Николай Полушкин да оба Гордеева потом подстроили. А тетрадь после похитили и спрятали.
– Кто же? Зачем?
Дальше вовсе сумбур. Тот, кому выгодно. Может Николай Полушкин с собой увез (зачем?). Может, у Пети с его еврейкой. (А этим на что?). Хозяева все продадут и в Петербург укатят. А мы тут помирай с голоду. А Петя хочет Опалинских ущучить, а после все под себя сгрести. (А вечно пьяненький Петя может?). Черт его знает, но жена у него – ведьма.
Зато в тетради – всем понятно что. Карта золотых месторождений и план обустройства коммунизма в одном, отдельно взятом уголке приишимской тайги. Может быть, еще подлинный текст царского указа про волю, который подлые министры позорно извратили. (Откуда он взялся у инженера Печиноги?!!) Господи, как все это грустно!
Мои разговоры с рабочими часто напоминают диалог слепого с глухим. Впрочем, кажется, они мне вполне доверяют и на свой лад даже прислушиваются к моим словам. Жаль, что хроническое пьянство сделало здешних мужиков почти невосприимчивыми к логике человеческого мышления. Рабочие из самоедов пьют меньше, но как-то еще более равнодушны ко всему, возможно, из-за того, что сам приисковый строй жизни им чужд изначально и совершенно.
Наблюдая местные нравы, я, как всегда, смущаюсь и страдаю, как будто бы вся эта грязь и все это убожество принадлежали лично мне, и я был за это в ответе. И как всегда, борюсь с этим ощущением, потому что оно в корне неверное, и с юности не давало мне жить и дышать полной грудью.
Здешняя неторопливая весна дает силы жить. Вскрытие льда на Тавде – событие невероятно зрелищное. Созерцание могучих сил природы, не зависящих от человеческих воль и придуманных теорий оказывает на меня слегка даже целительное действие. Много гуляю в лесу, иногда охочусь, почти не бываю в «обществе», много работаю и, кажется (Ха-ха-ха! – но какой же это горький, право, смех), по общему мнению, становлюсь все более похожим на покойного Матвея Александровича.
В своих одиноких прогулках неоднократно встречал детей – Петиных и Вериных. Странно, но они, кажется, знакомы между собой и состоят в каких-то отношениях. Интересно и забавно. Взрослые – враждуют, а дети нашли возможность…
Звериная троица держится со мной настороженно, хотя Зайчонок явно не понимает причины и лишь подчиняется приказам старших. Соня и Матвей, напротив, открыто дружелюбны, и даже, кажется, поспорили из-за меня с Волчонком. Все они ведут себя при встречах в тайге так, как будто что-то (или кого-то?) выслеживают. Не меня ли? Может быть, у них такая игра? Но что послужило для нее спусковым механизмом? Хотел бы я знать.
Отсутствие контактов с господами революционерами приносит мне, пожалуй, явное облегчение. Хотя, вероятно, нет смысла притворяться перед самим собой. Кроме упомянутого облегчения – больно. Иногда до темноты в глазах. Но это следует пережить. Лучше других зная доподлинное устройство «товарищей», я ведь вполне предполагал что-то подобное. Надя на людях не смотрит в мою сторону, но иногда прибегает ко мне, сверкая глазенками и дрожа от возбуждения. Я должен утешать ее и успокаивать всеми мне доступными способами. Кажется, что мои ласки и неправедная близость со мной стали для нее чем-то вроде навязчивой и опасной привычки. Я всей душой чувствую неправильность этого, но по собственной слабости ничего не предпринимаю. При том, разумеется, что именно я, мужчина, должен был бы что-то сделать, чтобы распутать или хоть разрубить завязавшийся узел.

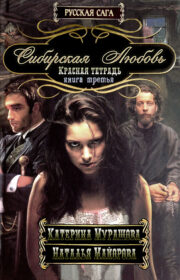
"Красная тетрадь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Красная тетрадь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Красная тетрадь" друзьям в соцсетях.