– Ма-а-ам-а-а! – не своим, невероятно высоким голосом закричал Черный Атаман, бросаясь навстречу.
– Митя… Живой… – прошептала Гликерия Ильинична и без сил сползла с седла прямо на одного из рыжих детей, едва не придавив его своим телом. Видимо ожидавший чего-то подобного, Кныш выручил Волчонка, вовремя подхватив старушку.
– Погляди, Соня, какую я штуку построил. Тебе нравится?
В крутом береге долины одного из впадающих в Березуевские разливы ручья отступившая позже вода промыла небольшую пещерку. Позже время или какие-то зверюшки расширили ее, придали почти идеально круглую форму входу. Дно и стены пещерки состояли из белого, кварцевого песка. Из одной из стен торчали толстые, аккуратно отпиленные корни растущей вблизи сосны.
Перед входом Матвей соорудил навес из коры, сосновых и еловых ветвей, сбоку от которого сложил каменный очаг. «Чтобы дождь внутрь не заливал, и так посидеть,» – объяснил он. С другой стороны от входа, тоже под навесом, он заготовил хворост и чурбачки для костра. Дно пещерки мальчик выстелил свежим сеном, на которое сверху кинул старое одеяло. Сено он сам накосил на ближайшем заливном лужке маленькой косой-литовкой. (Косу еще прошлым летом специально сделали под детский рост по заказу остяка Алеши. Матвей сразу и ловко научился управляться с ней, как будто с тем и родился. Соня же два раза подряд порезалась и по требованию Веры оставила попытки.) На торчащие из стены корни мальчик приделал две, одна под другой, полки, на них аккуратно расставил немудреную утварь: котелок, кружки, ложки, нож, лампа с запасом масла, крупа, сахар, соль в жестянках, краюха хлеба и сало в чистой тряпочке.
– Замечательно, Матюша, просто замечательно! – Соня вылезла из пещерки и в восторге захлопала в ладоши. – Так уютно там, так хорошо! И если на пороге сидеть, то на ручей смотреть красиво.
– Я знаю, что ты воду любишь, когда она течет, потому и…
– Спасибо тебе! Ты такой хороший, Матюша! – Соня в порыве чувств обняла брата за шею и звонко поцеловала.
Матвей неожиданно отстранился.
– Давай костер разведем и чаю вскипятим, – предложил он.
После дети долго сидели на пороге пещеры, прижавшись друг к другу и подстелив одеяло, молча глядели на текущие воды ручья и пляшущие языки небольшого костра, дым которого отгонял комаров и мошку. Молчание и неподвижность нимало не тяготили их.
Когда полуденная истома сменилась подступающей прохладой, и над ручьем пронесся вечерний шепот предзакатного ветерка, Матвей поднялся и вышел из-под навеса.
– Если я попрошу тебя, Соня… – тихо сказал он, глядя из солнечного круга в тень пещерки.
– Я сделаю, если сумею, – Сонины голубые глаза блеснули из тени. Кожа ее лица, рук, босых ног тоже казалась Матвею синеватой.
– Выйди сюда, ко мне и… и сними все.
– Все? – уточнила Соня.
– Да, – шепотом подтвердил Матвей. – Не бойся.
Соня не испугалась и даже не удивилась. Больше того, она с весны, с того самого дня, когда они увидали под елкой Веру и Никанора, едва ли не ожидала чего-то подобного.
– Хорошо, – сказала она. – Только тогда ты – тоже.
Матвей, поколебавшись мгновение, кивнул.
Они стояли на прибрежном лугу, в траве, далеко, едва ли не в десяти шагах друг от друга, и смотрели. Сухая и жесткая трава щекотала лодыжки и нежную кожу под коленями. У них был разный загар: у Сони загорели лишь руки до локтя, лицо, шея и ступни. Матвей же до пояса был красно-коричневый, ниже – белый, с каким-то синюшным, как у всех рыжих, оттенком. Незагорелая кожа Сони была молочно-белой. Без всякой просьбы со стороны мальчика она расплела косы. Светлые, выгоревшие на солнце локоны спускались по плечам почти до пояса.
Молчание было щекочущим и странно-приятным. Матвей нерешительно улыбнулся.
– Мы как будто стреляться собираемся, – сказала начитанная Соня и ответила на улыбку. Матвей внутренне согласился и подивился синхронности их с Соней чувств: именно поединок все это ему напоминало с самого начала. С того весеннего дня…
– Давай тогда сходиться, – сказал он и сам отметил странную хрипотцу в своем голосе.
Медленно, не гася улыбок, дети приблизились друг к другу. Теперь их разделял всего один шаг. «Господи, какая же она тоненькая! – смятенно подумал Матвей. – Как веточка. Надави где хочешь, и сломается!»
Каждый из них помнил другого столько же, сколько помнил себя. Они знали о том, что не родные по крови, но считали друг друга братом и сестрой. По вечерам они часто залезали друг к другу в постель и болтали, обнявшись. В их телах не было тайн друг для друга. Так было всегда, и вдруг все переменилось. Почему? Сейчас Матвей понимал одно: чувствовать и видеть – это совсем разные вещи.
– У тебя видно, как сердце бьется, – сказала Соня и протянув руку, показала. – Вот здесь!
Матвей прижал подбородок к груди, пытаясь рассмотреть. Потом расширившимися глазами взглянул на грудь девочки.
– У тебя тоже видно. Как будто бы птичка. Как странно… Я… я хотел бы подержать его в руках… Глупо?
– Нет… Вот! – Соня шагнула назад, сделала такой жест, как будто бы достала что-то из своей груди, и протянула раскрытую ладонь Матвею. – Вот мое сердце, бери. Оно твое. Навсегда.
Матвей заколебался, не зная, как правильно ответить на предложенную сестрой игру. Она всегда была тоньше и изобретательнее его, и обижалась, если он не понимал и не подхватывал сразу ее придумки. Поразмыслив, мальчик протянул вперед сложенные ковшиком ладони и принял в них воображаемый дар. Поднес к лицу и как бы поцеловал. Соня довольно улыбнулась, и Матвей вздохнул с облегчением: он сделал как надо. Менее всего ему хотелось бы обидеть Соню в эти странные минуты.
Приблизившись вплотную, Соня встала на цыпочки, и на мгновение коснулась губами сухих губ Матвея. Потом отошла, сгребла свою одежду и ленты и скрылась в пещерке.
Матвей тоже взял одежду и, не одеваясь, отправился к ручью. Ему вдруг захотелось искупаться.
Глава 20
В которой читатель знакомится с историей рождения Матвея-младшего, владыка Елпидифор вспоминает молодость, а Любочка Златовратская пишет письмо в Петербург
Совсем молодой рабочий мял шапку на пороге гостиной. Несколько волосков на его подбородке, заменяющие бороду, блестели от пота. Слегка раскосые, выдающие недалекую самоедскую кровь глаза помимо воли и темы разговора возвращались к груди молодой попадьи Аграфены. Фаня была в старом домашнем платье, которое уж давно стало ей тесным. Так что посмотреть было на что.
– Ехать надо. Совсем фельдшер помирает, однако. Зовет вас, отец Андрей. Грехов, говорит, много. Никак нельзя так помереть…
– Именно меня? – удивился священник. Со старым приисковым фельдшером Терентием Викторовичем, пьяницей и дебоширом, он, можно сказать, и не разговаривал ни разу в жизни.
– Да нет, он-то как раз отца Михаила хотел, да я уж там был. Попадья сказала, приболел отец Михаил, не может ехать…
– Приболел он, как же… – пробормотал Андрей.
– Андрюша, Андрюша! – заквохтала Фаня, по обычаю оказавшаяся между интересами и репутацией отца и мужа. – Ну что ж тут поделать. Батюшка уже немолод. А ехать надо, раз Терентию Викторовичу срок пришел. Он столько лет на приисках да на Выселках лечил…
– И еще бы лечил, коли б пил поменьше… Лекарь! – с нескрываемым раздражением откликнулся отец Андрей. Молодой рабочий покраснел от смущения.
– Ты иди, милый, иди в кухню! – захлопотала над ним Фаня. – Тебе там Василиса чаю даст. А отец Андрей как раз в аккурат и соберется. Ладком и поедете. Даст Бог, застанете Терентия Викторовича живым, и все, как подобает, и совершите…
В избе фельдшера стоял такой застоявшийся гнилостно-сивушный запах, что отец Андрей с трудом заставил себя дышать. Терентий Викторович лежал высоко в подушках, был плох, но в памяти. Жена фельдшера тихой мышкой шебуршилась где-то на краю поля зрения. Детей то ли не было, то ли давно и далеко отъехали. Удивительно, но в избе, кроме запаха, не было никаких примет тяжелой болезни хозяина – тазов, тряпок, кружек с отварами, пузырьков с лекарствами.
– Может, вам доктора… того, полечить? – нерешительно предложил Андрей.
– Я сам доктор, – тихо сказал больной. – Диагноз себе могу поставить не хуже местных эскулапов. А лечения от моей болезни покамест не придумали. Так что не обессудьте и спасибо на добром слове. И что приехали. Присядьте вон туда, к окну, там свежее…
Видно было, что говорить больному трудно, но никакие боли его, похоже, не мучили. Возможно, свою роль сыграл опий или морфин – в медицине отец Андрей разбирался плохо. Однако, нынче умирающему требовалось духовное утешение и окормление. Слегка привыкнув к обойме местных запахов, отец Андрей готов был приступить к выполнению своего долга.
После совершения соответствующих обрядов Терентий не заставил себя долго ждать.
– Хотел отцу Михаилу рассказать, да видно не судьба, – тихо произнес он. – Придется вам. Нельзя мне это с собой уносить, а других свидетелей и нету. Здесь, в Егорьевске, нету, я хотел сказать. Надо рассказать. Уж больно узел тугой завязался. Как бы не удавил кого…
– Вы хотите, чтобы, выслушав вашу исповедь, я что-то сделал? – уточнил Андрей.
– Это уж вы сами решать будете, когда услышите. Делать, не делать… Мне-то уж все равно будет… Слушайте покамест…
Повинуясь какому-то почти незаметному знаку, жена фельдшера поднесла ему воды и тут же снова исчезла. Терентий Викторович продышался и мучительно нахмурился, вспоминая и подбирая верные слова.
Вера Михайлова рожала долго и тяжело, почти двое суток. Ребенок шел огромный (да и было в кого), к тому же – плечом вперед. Разрывы в промежности были колоссальными и кровили нещадно. К концу процесса роженица была без памяти и вся, до бледного, заострившегося носа, залита кровью. Потуг практически не было, но ребенка, по счастью, удалось достать. Он не дышал, и, похоже, умер не только что, а час или два назад. Синее, страшное тельце Софи завернула в приготовленные для новорожденного простынки. Фельдшер штопал Веру, как прохудившийся мешок.
В этот момент под окнами послышалось храпение едва не загнанного коня и злобное уханье калмычки Хайме, трактирной прислуги из Егорьевска. Калмычка вбежала в дом и, едва взглянув на Веру и Софи, кинулась к фельдшеру.
– Едем, Терентий, едем! – закричала она. – Роза все деньги отдаст, все отдаст, дочь помирает!
– Элайджа? – удивилась Софи. – А отчего же она помирает?
В отличие от Веры, Элайджа всю беременность отходила легко и ни разу ничем не хворала.
– Рожает она! – снова закричала бездетная Хайме.
– Пусть Самсон доктора Пичугина позовет, – велел Терентий Викторович, отирая запачканные кровью руки. – У меня здесь тяжелый случай, я не могу…
– Да доктор сам захворал. Лежит, горит весь! Акушерка не идет, боится Элайджу, думает, что она колдунья…Спаси, Терентий, Роза тебя озолотит! – умоляла Хайме и, видимо, наученная Розой, норовила бухнуться на колени. –
Фельдшер глянул на обескровленное лицо Веры и отрицательно покачал головой. Внезапно Софи потянула его за рукав и состроила какую-то непонятную, но совершенно зверскую гримасу. Потом замахала руками на Хайме и неожиданно пронзительно завопила:
– Скорее, Хаймешка! Беги, лошадь в сани запрягай! Сама, скорее! Бедная Элайджа! Твоего коня разотри и в конюшню поставь. А то падет! Терентий Викторович верхом не может!
Хаймешка с вытаращенными глазами бросилась выполнять приказ, явно приближающий ее к выполнению ее миссии.
– Вы что, барышня, с ума сошли? – спросил фельдшер Домогатскую, когда они остались одни.
– Никак нет, – усмехнулась Софи. – Едем сейчас к Элайдже.
– Как? Вы тоже? Зачем? А она? – окончательно растерявшийся и непривычно трезвый (стесняясь Софи, он не пил уже двое суток) фельдшер кивнул на безжизненное тело, распростертое на кровати.
– По дороге заедем, попрошу бабу за ней приглядеть.
Софи заметалась по комнате, укладывая в большой кофр какие-то непонятные для фельдшера вещи, а в довершение поверх всего сунула ужасный сверток с трупиком младенца.
Фельдшер с расширившимися глазами наблюдал за происходящим. Все это было непонятнее и, пожалуй, ужаснее пьяного бреда. Но он молчал, потому что, не признаваясь себе, боялся. Боялся обеих женщин: и странную Веру с желтыми мертвыми глазами, которая за двое суток непрерывных мук ни разу не застонала; и ее хозяйку, хрупкую девочку с горящим взором, те же двое суток помогавшую ему в самом грязном уходе за своей горничной, и никого, кроме него, не подпускавшую к ней. Девочка-аристократка, которая, чуть сощурившись, опускала холеные тонкие руки в слизь, в кровь, в фекалии, которая, не дрогнув, приняла в свои объятия маленькое мертвое чудовище…
За окном послышался скрип снега под полозьями и уханье Хайме.
– Поехали! – велела Софи, подбирая фельдшера под локоть. – И глядите: там про то, что здесь, молчите. Ни слова!

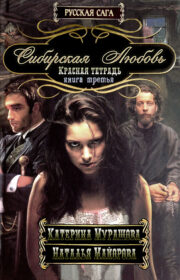
"Красная тетрадь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Красная тетрадь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Красная тетрадь" друзьям в соцсетях.