Роза гулко рыдала внизу в общем, пустом по ночному времени зале.
«Какой кошмар! Какой позор! Какая беда!» – повторяла она на все лады. Самсон безуспешно пытался успокоить жену. Бледный Илья проводил Софи и фельдшера во флигель к сестре.
Элайджа сидела в подушках на постели и ела пряник. На полных губах играла легкая приязненная улыбка. Ослепительно-рыжие кудри рассыпались по плечам.
Увидев Софи, она явно обрадовалась. Слегка нахмурив лоб и сосредоточившись, Элайджа проявила чудеса светскости:
– Проходите, господа. Располагайтесь с приятностью, – сказала она, указывая голой округлой рукой на стулья, стоящие у стены. – Что вам подать? Для обеда вроде бы поздно? Ведь ночь? Может быть, чаю? Орешков?
– Нам ничего не надо! – быстро сказала Софи и с осторожностью добавила, – Элайджа, как ты себя чувствуешь?
– Хорошо. Вот здесь щемит, – девушка указала пальцем на низ живота. – Но это потому что ребенок рождается. Илья мне объяснил…
– Давно у нее… щемит? – спросил фельдшер, оборотясь к Илье.
– Да уж часов пять. Она не сразу сказала… – Илья казался растерянным. Ему явно хотелось уйти, но и оставить сестру он не решался. Вдруг Элайджа испугается, начнется припадок, и тогда…
– Иди, Илья, мы за ней присмотрим, – сказала Софи. – Элайджа меня не боится, ты знаешь. Если будет надо, я позову…
– Благодарствуйте. Я пока прослежу, чтоб потребное приготовили, – молодой трактирщик с удовольствием поклонился Софи и поспешно ретировался.
– Мне надобно теперь тебя осмотреть! – решительно сказал фельдшер и, вымыв руки, двинулся к постели, на которой расположилась Элайджа.
– Совсем не надобно! – возразила Элайджа и смягчила свой отказ обаятельной улыбкой. – Я вам скажу, когда…
Некоторое время все молчали. Фельдшер боялся применить силу, так как знал от Софи о психической неуравновешенности Элайджи и случающихся у нее от страха припадках.
Потом Элайджа опять решила быть светской. Видимо, готовящееся напряжение сил как-то обострило и ее умственные возможности.
– Вы из-за меня в постель не ложитесь, – с сожалением произнесла она. – Но ведь ты любишь, как я пою, – девушка с надеждой взглянула на Софи.
– Да, конечно, – подтвердила Софи. – Ты прекрасно поешь.
– Хорошо! – Элайджа по-детски захлопала в ладоши. – Подай мне гитару. Она на шкафу.
– Но…
– Подай, подай! Я хочу!
Софи пожала плечами, достала со шкафа гитару и положила ее на постель.
Элайджа привычно пристроила инструмент слева от живота, прилегла на бок и провела чуткими пальцами по мягко натянутым струнам.
Сначала хрустальный голос выводил печальные и суровые еврейские гимны, потом, желая угодить гостям, Элайжа запела озорную фривольную песенку, которой научил ее старик Яков. Иногда она замолкала на полузвуке, как бы с удивлением прислушивалась к себе, и снова продолжала петь.
С невероятным изумлением фельдшер видел, что периоды между замолканиями становятся все короче. Элайжда готовилась вскорости родить, но, казалось, ее это совершенно не беспокоило. Хайме бесшумно принесла горячую воду, пеленки и тряпки. Илья с опрокинутым лицом заглянул в комнату и снова скрылся. Элайджа пела…
– Терентий! – Софи требовательно потянула фельдшера за рукав. – Скажите как врач, Терентий, как здравомыслящий человек, она, вот такая, может быть матерью?
– Физически – вполне! Я никогда не видел таких легких схваток.
– Вы понимаете, что я спрашиваю не об этом! – злобно прошипела Софи, отвернувшись к окну.
– Судя по всему, у нее разум десятилетнего ребенка.
– Вот именно! Мать слабоумная, отца… Где вы тут видите отца?
– Может быть, Роза с Самсоном…?
– Вы видели Розу. Она плачет и причитает: «Какой позор!» Нет! Мы сделаем иначе! Когда она родит, мы возьмем ребенка, и увезем туда… к Вере!
– Софи! – опешил Терентий Викторович. Он только сейчас понял, что за план зрел в головке аристократической авантюристки. – Это же грех! Побойтесь Бога!
– Да ладно вам! Вспомнили! – прошипела Софи. – У Бога и без нас дел навалом. За всем не уследишь. Надо же и самим порадеть немножко. К тому же Элайджа иудейка, а Вера сразу крестить понесет. Вот и выйдет у вашего Бога прибыток – одна душа лишняя…
– Господи, что вы несете!! – легкость, с которой эта странная девочка распоряжалась чужими жизнями и душами, в действительности пугала его. Отчего-то вспомнилась приисковая байка о том, что у покойного Печиноги, отца умершего младенца, не было души.
Элайджа пела…
Немолодому фельшеру Озерову никогда не доводилось видеть таких родов. Элайджа улыбалась, теребила задранную к горлу рубаху, скучала между потугами и просила то квасу, то пряник. Ребенок, доношенный, но не чрезмерно крупный, выскользнул прямо в руки Софи. Его крик, высокий и мелодичный, напоминал песню матери. А увидев на лице новорожденного младенца ту же рассеянную улыбку, Терентий сполз на пол и хрипло попросил неизвестно кого:
– Водки…
– Будет вам водка, все будет! – деловито пообещала фельдшеру Софи, сноровисто перепаковывая живых и мертвых младенцев. – Я сейчас через двор с кофром уйду, а вы Илью позовете и сообщите, что младенец умер. Если про меня спросят, скажете, что у Софи, мол, нервы не выдержали от переживаний, убежала она, ни с кем говорить не захотела. Потом Элайджу осмотрите, и приезжайте к нам, к Вере. Я уж водки приготовлю и закуски… Ну, Терентий, давайте, не подведите всех!
Элайджа лежала, полностью умиротворенная и, кажется, спала. Про ребенка она так ничего и не спросила, хотя, несомненно, слышала, как он кричал.
Когда Терентий Викторович прибыл в приисковый поселок, Вера уже пришла в себя и лежала, обняв насосавшегося молока младенца.
– Познакомьтесь, Терентий Викторович! – гордо сказала Софи, указывая на торчащую из подмышки роженицы головенку, покрытую рыжеватым пухом. – Матюша-младший… А что ж я? Как там у Элайджы? – с насквозь наигранной тревогой спросила она.
– Роженица неплохо, – чувствуя себя полным дураком, ответил Терентий Викторович. – А младенец… Увы! Умер.
– Как жаль! – Софи потупилась и промокнула платочком выступившую слезу. – Бог дал, Бог взял… Душа у него безгрешная, и он нынче в раю…
– У иудеев нет рая, – неожиданно сказала Вера.
– А его по христианскому обряду похоронят! – воскликнула Софи. – Элайдже все равно, а отец-то – Петя. Он настоит. И Машенька…
– Тогда хорошо, – почему-то успокоилась Вера.
Матюша-младший закряхтел, тужась, и Терентий Викторович вспомнил о своих профессиональных обязанностях – осмотреть младенца и мать.
Софи, довольная, как слопавший сметану кот, демонстративно наливала водку в самый большой стакан, который сумела отыскать у Веры в хозяйстве.
– Ого! – отец Андрей тщательно старался скрыть потрясение от рассказа и погасить совершенно неуместную по совокупности обстоятельств улыбку. – Так это что ж выходит?
– То и выходит, – качнул головой фельдшер. В его голосе явственно сквозило облегчение. – Я рассказать успел, снял с души грех, а вы теперь тут сами… разбирайтесь…
– Да уж, – вздохнул священник. – Если станет про то известно, то разборы получатся… немалые…
– А мне – все равно! – Терентий Викторович вдруг улыбнулся прежней, почти молодой улыбкой обаятельного пьяницы. – Я от всех убежал!
К утру фельдшер Терентий Викторович Озеров тихо скончался. Отец Андрей отслужил заупокойную службу. Опалинские прислали венок. Накануне Марья Ивановна написала письмо в Ишим с просьбой подыскать нового фельдшера на прииски. Жалованье положила на два рубля больше, чем платила прежнему.
Тяжело шаркая калошами, владыка Елпидифор прошел в левый придел собора и опустился на табуретку, чтобы передохнуть. Любое действие он теперь делил на много мелких частей и выполнял их последовательно, одну за другой. Главное было – не забыть, что собирался сделать в конце. Иногда эта самая конечная цель вдруг пропадала, и тогда старый священнослужитель вдруг обнаруживал себя словно проснувшимся посередине какого-то совершенно непонятного ему действа. Один раз, стоя на службе в церкви, он вдруг решил, что сидит в Петербургском императорском театре и слушает оперу. Минут пять пытался по отрывкам духовных песнопений вспомнить ее название… После, когда понял, что к чему, долго смеялся. Старость, что ни говори, – забавная пора жизни. Те, кто считает, что у Творца нет чувства юмора, просто ничего не понимают. Зачем бы иначе Он выдумал стариков? Ну не для накопления же мудрости… Хи-хи-хи! Кстати, а зачем он сейчас сюда пришел? Для вечерни вроде еще рано…
Отец Андрей вошел почти бесшумно и даже слегка напугал старика. Почтительно склонился под благословение, поцеловал руку. Даже в полутьме собора было видно, что молодого человека буквально распирают новости.
– Говори, сын мой, – вздохнул Елпидифор.
Молодость всегда суетна и в этом есть смысл. То, что было давно, помнилось владыке куда отчетливее, чем то, что случилось вчера. Когда-то он тоже был суетен и… счастлив?… Да что там! Сколько лет назад это было? Теперь следует послушать…
– …. Теперь вы можете себе представить, владыка, что из этого воспоследует для егорьевской жизни? Коли всем станет известно?
– И что же? – с легким любопытством поинтересовался Елпидифор.
Если сказать честно, то он не представлял. Ничего абсолютно. Впрочем, смутно помнил девочку из Петербурга. Как она танцевала в свете факелов. С каким-то еле слышным стеклянным звоном сплетала руки и накручивала на палец локон. Смотрела темными внимательными глазами, как будто хотела понять. Кажется, с самонадеянностью юности утверждала, что не верит в Бога. И вот. Эта девочка под шумок поменяла младенцев. Отдала живого своей конфидентке, решив, что той, другой, меньше надо. Так, впрочем, и оказалось. Если он правильно понял, то другая потом родила еще три штуки. Не вполне нормальных? Диких? Интересно, что это значит? Они хоть все крещеные?
– Во-первых, выходит так, что две противоборствующие нынче в Егорьевске силы: Вера Михайлова и остяк Алеша, с одной стороны, и Опалинские-Гордеевы – с другой, имеют единокровных наследников. Уже получается пикантно, не так ли? Во-вторых, все знают, что сын Веры Михайловой – Матвей – крайне умный, вежливый и не по годам развитый мальчик. Я слыхал об этом от разных людей, которые врать не станут. Значит – что? Дикость и невменяемость младших Гордеевых – насквозь надуманная. Раз их старший брат способен учиться и существовать в обществе, значит, и они могут. Просто никто этим сейчас не занимается, а если заняться, то и успехи будут соответственными. А следовательно, права Александра в империи Ивана Гордеева следует делить на четыре…
– Подожди, подожди, Андрюша, я не понял, – перебил Елпидифор молодого священника. – А откуда они узнают-то? Фельдшер, насколько я понял, помер, царствие ему небесное, девочка, которая всю кашу заварила, давно съехала, сама Вера Михайлова считает мальчика своим родным сыном…
– Так вы считаете, владыка, что я должен молчать?
– А ты сам что же считаешь? – Елпидифор строго нахмурил реденькие брови. – Нарушить тайну исповеди?
– Да не было никакой тайны, в том-то и дело! – воскликнул отец Андрей. – Терентий мне сам сказал: я вам правду открыл и ухожу, а вы теперь тут разбирайтесь, как знаете. Он вообще-то не меня звал, а отца Михаила…
– А явился ты, и тут уж ничего не изменишь… Так ты что же надумал, Андрей?
– Да я и сам не знаю. Вот, к вам посоветоваться пришел.
– Хочешь вправду совета? Или, чтобы, как у молодежи водится, наоборот сделать? Да не тушуйся ты, я сам таким был… Говори, как на духу…
– Совета… – поколебавшись, сказал Андрей.
– Тогда оставь все, как есть. Пускай живут, как карта легла…
– Как карта легла?! – ошеломленно повторил священник. За долгие годы общения с владыкой он наслушался всякого, но карты… – Вы ли, владыка…
– А что? Иными словами про жизнь порой и сказать нельзя, – усмехнулся Елпидифор. – А что до моего сана, так я ж не родился владыкой… В Петербурге, помню, такие пульки расписывали… – молодой священник потряс головой, словно отгоняя наваждение. – Кстати, сын мой, – спохватился Елпидифор. – А ты не знаешь ли, зачем я нынче сюда пришел?
– Не знаю, владыка, – ответил Андрей. – Служанка ваша, Алена, сказала, что вы в соборе, но по какой надобности…
– Не сочтешь ли за труд сходить и спросить у нее? Может, она помнит? Я-то, видишь, позабыл…
Отец Андрей вышел, а владыка поудобнее пристроился на табуретке, свесил голову на грудь и, казалось, задремал. Однако, это было не так. Мысли в его голове бежали резвые и молодые. Один раз мечтательная улыбка шевельнула белоснежные усы – владыка Елпидифор вспомнил свой самый большой в жизни выигрыш: в дворянском собрании ему сдали три дамы, он взял четвертую – даму треф – и получил каре. Двое игроков вскрылись сразу, а с оставшимся противником он торговался до последнего, однако победа осталась за ним…

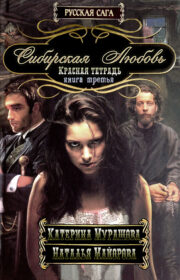
"Красная тетрадь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Красная тетрадь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Красная тетрадь" друзьям в соцсетях.