– Обители какой-нибудь отдать. Самое богоугодное дело вышло бы. Праведные люди отмолили бы грехи от места, – послышался негромкий голос от двери.
Машенька обернулась вместе со всеми и увидела очень высокую фигуру, закутанную в черные одежды. Худощавое, прорезанное морщинами лицо с глубокими, горящими темным огнем глазами показалось знакомым. Повспоминав несколько мгновений, она вспомнила.
– Сестра Евдокия!
– Я.
– Как вы здесь? Откуда? Столько лет… С вами тогда еще была… Такая румяная, пригожая…
– Ирина, – равнодушно кивнула странница. – Умерла от кишечной болезни. Тому уж… лет пять будет…
– Выйдемте со мной наружу. Мне душно… – быстро сказала Машенька.
– Маша, может быть?… – начал Дмитрий Михайлович.
– Нет, оставь меня.
На мостках, вдающихся в озеро, с краю выцветшей доски бурело странное, неправильной формы пятно. Машенька сразу догадалась, что это, но не хотела о том думать, встала подальше, впрочем, взгляд все равно притягивался.
Евдокия легко, почти по-молодому подоткнула черное платье, уселась на ступеньках, спускающихся к воде.
– Вы мне тогда сказали: «иди в любовь!» Помните? – без предисловий начала Машенька. – А что ж вышло?
– Помню. А что ж вышло? – без любопытства отзеркалила странница.
Что ж вышло? Машенька пыталась подобрать слова, ей казалось, что она много лет ждала этого момента: выговорится кому-то почти постороннему и равнодушному, но в то же время почти и участнику событий. Казалось, дай срок и место, и речь польется свободным, ничем неудержимым потоком. Но слова не находились. Впрочем, оставались чувства.
У нее было такое чувство, словно у нее украли будущее. Оставили прииски, семью, все прочее. НО все это – уже никогда не будет освещено светом любви, светом извечной игры между мужчиной и женщиной. Почему? Бог весть. Дело не в годах и даже не в погибшем Мите. Для нее все кончилось, в сущности, не начавшись…
– Не надо было мне…
– Не надо, – сразу же согласилась Евдокия. – На лжи не построишь счастье.
Кому она солгала?! Машенька хотела возмутиться, закричать, затопать ногами, но не стала этого делать, потому что уже знала ответ. Самой себе, и другого ответа нет и быть не может.
– Ты поняла так, как тебе было удобно, – продолжала между тем Евдокия. – «Иди в любовь!» Коли решила, так и надо было туда идти. И его за собой вести. В любовь, а не в ложь, понимаешь ли разницу, дурочка? Открыться всем, назвать имя, найти, вызвать из тайги того, который теперь здесь мертвым лежит, восстановить в правах…
– Но ведь Сережу бы на каторгу за то отправили, в острог!
– Ну и что? А ты – за ним. В острог! В тюрьму! В любовь! А ты как полагала? В мягкой постели все? Так, милая, не бывает! Чего ж, вместе пережили бы все и очистились от всего. Чего и бояться-то было? Он же у тебя не убивец, не душегуб, не разбойник, смошенничал просто по случаю. Не так бы много ему и дали. А уж с твоими-то деньгами и поддержкой… А вот испугалась, и получилась вам тюрьма на двоих, да на всю жизнь… Помнишь, как я тебе целиком-то говорила: «Кто ушел в любовь, тот уж назад не вернется»? А что ты в пути с дороги сбилась, так в том не моя, а твоя собственная вина… Моей, впрочем, и без того хватает…
В словах Евдокии была справедливость, но не добро. Оттого Машенька и не заплакала. Прошла мимо старухи молча, не глядя, высоко подняв голову. Так и шла по ухоженному двору, ничего не видя вокруг, пока почти грудь в грудь не столкнулась с Верой Михайловой.
– Здравствуйте, Марья Ивановна!
– Здравствуйте, Вера Артемьевна!
Слова Евдокии еще стучали в висках, хотелось обвинить в случившемся и, особенно, в неслучившемся хоть кого. Оттого сначала вырвалось, а уж потом подумалось.
– Вера! Вы же от Софи все знали про Сержа. Отчего молчали столько лет, не донесли? Вы ж меня терпеть не можете, а я – вас. А тут такая возможность разом все уничтожить…
(«Господи, зачем я ее спрашиваю?! Да еще так откровенно! Что она подумать может? Что сделать?»)
– Софья Павловна просила молчать. Ради вас, не ради него. Говорила: пусть Машенька сама решит, никому мешаться невместно.
– И вы по ее слову молчали столько лет?!
– Конечно. А что ж тут удивительного? Trahit sua quemque voluptas (всякого влечет своя страсть).
– Вы… вы надо мною издеваетесь?!
– Да нет, с чего вы взяли? Мы с вами нынче в одном положении. Зачем же мне?…
– В каком это положении? Что вы имеете в виду? – подозрительно спросила Машенька.
– В конце бабской истории, что ж еще? Вы ведь портрет видали, – не спрашивая, утвердила Вера. – Вот то, что упустили. И я. Не упустила, но… Оба там лежат. В будущем много чего будет, но того – уже нет… – Машенька ощутила пронзительный озноб от того, что Вера будто с листа читала ее мысли. – Вам лучше, чем мне. На вас четыре судьбы вперед завязаны. У меня двое пока, да и то… Родная кровь – большое дело, как ни крути…
– Отчего же – четыре? – помертвевшими губами спросила Машенька, подумав почему-то о своих четырех беременностях.
– Один – ваш Шура, да трое брата детей. Кто ж, кроме вас, их учить да на ноги поднимать станет?
Машеньке стало неприятно, что Вера говорит о ее судьбе, как о чем-то раз и навсегда решенном. Она-то мечется, мучается, а этой твердокаменной Вере – все ясно. И про себя, и про нее, Машу…
– Почему это я должна?…
– Да уж должны…
От Вериной усмешки курица могла взбеситься.
– Я вас ненавижу!
– Ненавидите? – с ленивым удивлением переспросила Вера. – Ну надо же. А мне до вас и дела нету… Quod non opus est, asse carum est (в чем нет нужды, тому цена – медяк).
Едва ли не впервые в жизни Машеньке хотелось ударить, да что там – убить человека.
Само собой, она не стала ронять себя – сдержалась. Обожгла, как надеялась, взглядом, и пошла прочь, стараясь ступать ровно, по ниточке, как учила когда-то Софи. Уже отойдя, не выдержала, оглянулась незаметно, через плечо. Вера отгрызала от ногтя заусенец и задумчиво смотрела куда-то в озерную даль.
Выводок синичек-лазоревок быстро и сноровисто подбирал крошки от засохшего и рассыпавшегося пирога. Отчего-то люди ушли, бросив хорошую еду, которую обычно едят сами. Двое оставшихся людей не шевелились, но маленькие синички все равно осторожничали, косили бусинными глазами. Мать-лазоревка людей не боялась. Тем более, что оба были ей знакомы. Первого она видела уже давно, когда сама была слетком с ярким, еще не выцветшим оперением. Второй охранял под елкой ее гнездо. Почему же они теперь лежат здесь вместе и смотрят в небо? Что они там увидели? Почему не встают и не разговаривают между собой?
Лазоревка еще немного подумала, склоняя аккуратную головку то на один, то на другой бок, а потом позвала детей и велела им уходить, улетать отсюда вслед за ней. Маленькие синички были недовольны, потому что крошки еще оставались, но привычно последовали за матерью. Осенью в тайге много еды, а здесь… Наверное, мать-синичка права, и что-то тут нехорошо. Она больше их жила на свете, и ей виднее…
Глава 27
Варвара споро шла на север по едва заметной тропе. Солнце недавно взошло, но в тайгу попадали только отдельные лучики. На толстых осенних паутинах висели иголки и сверкающие капельки воды. Привычным глазом художника Варвара запоминала особо красивые узоры.
За спиной Варвары висела тяжелая походная котомка. Больше половины содержимого заветного сундучка перекочевало в нее. Остальное осталось на месте, в захоронке у расщепленной сосны. Если из замыслов Варвары ничего не выйдет, она вернется в родные края, когда все успокоится и забудется, и воспользуется оставшимися ценностями. В той же котомке лежала красная тетрадь. Варвара прекрасно знала, зачем она несет ее с собой. Когда она прибудет в Петербург, ей, Варваре, дикой остячке из тайги, даже с деньгами будет нужна помощь, чтобы разобраться, что там к чему в этой столице. Варвара найдет Софи Домогатскую. Софи нельзя заинтересовать золотом и самоцветами, но вот тетрадь с историей инженера Измайлова заинтересует ее наверняка. Ведь она копит человеческие судьбы также, как Варвара копит красивые узоры и драгоценные камни.
Никто не будет искать ее здесь. Осенью никто не идет на север. Даже серые гуси летят на юг, вслед за уходящим летом. Завтра Варвара сядет в обтянутую кожей лодку и поплывет на север. Быстро-быстро. Она самоедка и умеет ходить по бурной воде и небольшим порогам. Через большие пороги она проведет лодку на бечеве или перенесет на спине. Может быть, она успеет попасть на «Улыбку Моря». Сигурд Свенсен возьмет ее с собой. Варвара сумеет его уговорить. Благодаря Черному Атаману она знает, что нравится белым людям. В конце концов, у нее есть деньги, и она просто заплатит ему за проезд.
Все будет хорошо. И солнце рисует такие красивые золотые узоры на листьях и хвое лиственниц…
Тобольскому полицмейстеру титулярному советнику господину Каверзину А. А. от Егорьевского исправника Овсянникова С.С.
Спешу сообщить, что совместная полиции с жандармским отделением операция «Дуб» успешно завершена. В результате совершенно уничтожена банда Дубравина, в связи с чем тракты наши наконец-то снова свободны для проезда казенных и частных экипажей, а также торговых возов. Девять человек разбойников убиты, еще тринадцать арестованы, закованы в кандалы и скоро предстанут перед судом. Кроме того, как и планировалось, попутно уничтожено гнездо отвратительного вольнодумства, а также пресечена опасная для всякого государства практика побега из мест заключения и каторги и препровождения осужденных законом лиц за границы Российской империи. Здесь арестованы три человека в Егорьевске, и еще пятнадцать по ходу действия всего преступного замысла. К сожалению, внедренный в нелегальную структуру агент погиб в результате несчастного случая в тайге. Впрочем, то произошло уже после полного разоблачения организации. Выявить и обезвредить вольнодумцев на частных золотых приисках удалось лишь частично, так как бунт был предотвращен умелым вмешательством приискового инженера, отстранившего от дела владельцев прииска, с которыми и происходил договор о невмешательстве. Впрочем, эта ситуация разрешилась не окончательно, и, думаю, все наши планы будут исполнены сполна, хотя и с небольшим опозданием. Наша доля в договоре была – обеспечить охрану порядка при закрытии приисков (по истощении золотоносных песков). Теперь ситуация фактически осталась без контроля. Шустрый инженер (из бывших петербургских революционеров) был нами скомпрометирован перед общественностью еще деятельностью погибшего агента, по нашим данным, совершенно в настоящее время деморализован и собирается вскорости отбыть в Петербург. Так что все обговоренное будет исполнено, на том можете положиться на меня лично.
За сим остаюсь преданный слуга Царю и Отечеству.
– Манька! Христом Богом молю, перереши все и пойдем со мной, к «каменщикам» на Алтай! С Рябым я уж договорился, что ты стряпать для нас в дороге станешь, и стирать. Да ты не думай, я тебе во всем подмогну…
Крошечка Влас возвышался над тщедушной Манькой, уложив клешнястые руки с тонкими еще, мальчишескими запястьями ей на плечи. Манька говорила, задрав голову кверху и подбоченясь.
– Нет, Влас, нет! Сколько говорить! Батьку убили, мамка с теткой померли, на кого я их, сирот, покину? Пропадут…
– Ну, Манька же! – в голосе Крошечки слышалось подлинное отчаяние. – Ты ж и так сызмальства на них на всех горбилась! Почему нынче-то для себя не можешь?!
– Кто ж знает, почему? – Манька чуть повела плечами, а Крошечка сильнее сжал их. В движении этом была и злость, и отчаянная нежность. – Судьба так велела или Бог, что я старшей родилась. Обратно-то дороги все равно нету…
– Но может быть, не пропадут еще, а? Живут же сироты… – нерешительно предположил Влас.
– Да, – согласилась Манька. – Ежели бы мы в крестьянской общине жили, или хоть у кержаков, тогда – да. Там сироты не пропадут, мир поддержит. Да и то, какая нынче в Сибири община – каждый сам за себя. Кержаков хотя бы их вера держит. А мы – пролетарии, у нас ничего, кроме своих собственных рук, нету. И за нами никого, если объединиться против эксплуататоров не сумеем…
– Ма-анька! – Крошечка с трудом вернул на место отвалившуюся челюсть, по-щенячьи щелкнув при том зубами. – Откуда это ты таких слов-то нахваталась?!
– А что ж? Я хоть от земли не видна, да молчу всегда, но ведь при ушах да при памяти. Слушать умных людей да запоминать их слова могу… Я, Влас, уже все про себя решила. Пойду к своей сестричке младшей да брошусь ее приемной матери в ноги. Говорят, у нее прислуга не задерживается, строга да смурна больно. Да я-то уж постараюсь. Ноги ей буду мыть и воду пить, а угодить сумею. Соня ко мне хороша, меня научит, как правильно подольститься. Все одно ей скоро нянька для младенчика понадобится…

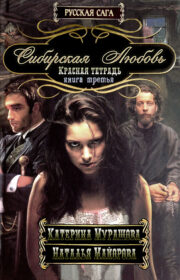
"Красная тетрадь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Красная тетрадь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Красная тетрадь" друзьям в соцсетях.