— Там их убивают.
Кристина не была уверена, что так следует поступать с ними и здесь. В конце концов, это дело Божье. На всех курсах, какие она слушала, посещая лекции и семинары по восточной и современной религиозной мысли, по этике общественного сознания и общественных отношений, по истории религии, среди всех этих возвышенных слов, нанизываемых одно на другое, почти в каждом из них присутствовал Бог. Но она не знала Его. Большую часть жизни Он пребывал для нее где-то там, в небытии, в тумане. Как там сказано у Махатма Ганди? «Один из семи тягчайших пороков — это когда человек усыпляет свою совесть с целью получать наслаждения».
Ганди тоже был где-то в тумане, хотя его кредо она поместила над своим рабочим столом и оно служило ей нахальным дерзким напоминанием. А у Ганди какие могли быть соображения насчет смертной казни? Вообще и в частности по отношению к тому человеку, который его убил? Его бы Ганди простил. Кристина была в этом уверена. Так же как папа Иоанн Павел II простил того болгарина, который готовил на него покушение. Ганди тоже простил бы своего убийцу. Но это был Ганди, который написал, что седьмым тягчайшим пороком является «политика без принципов». Ганди был до крайности принципиален.
— А Джон Леннон простил бы Марка Дэвида Чепмана? — спросил Говард.
Кристина улыбнулась и поучающе ответила:
— Ты ведь у нас большой знаток поп-культуры. Я не думаю, что Джон Леннон стал бы его прощать, — добавила она. — Ему бы еще жить и жить.
— Значит, вот как ты трактуешь прощение? Ты думаешь, своего убийцу прощать легче, когда твоя жизнь уже лишена содержания?
— В значительной степени именно так, — сказала Кристина. «Но жизнь папы не была бессодержательной. Вовсе нет. Но с другой стороны, у папы не было пятилетнего Шона Леннона», — грустно подумала Кристина.
Говард стоял, переминаясь с ноги на ногу.
— Ты замерз, — сказала Кристина, расстегивая его пальто и возвращая ему. — Бери.
Он взял пальто, но не надел. Они оба поеживались.
— Знаешь, — проговорил Говард неуверенно, — если хочешь, приезжай на праздники в Нью-Йорк. Мы можем пойти посмотреть Дэвида и Шона Кессиди в «Кровных братьях».
Он должен был ее пригласить. Дождался последней минуты, но все равно пригласил. Кристина почувствовала себя неловко. Она снова погладила рукав его пиджака.
— Все в порядке, Говард. Это ведь просто какие-то дурацкие праздники.
— Я знаю, — сказал он. — Но мне не нравится думать, что эти дурацкие праздники ты проводишь одна и к тому же несчастлива.
— Я не буду одна. Понимаешь? Не бу-ду, — сказала она, улыбнувшись. — И я не буду несчастлива.
Кристина хотела, чтобы Говард снова ее обнял, но он не сделал этого. Он вообще никогда первым не прикасался. Его поведение по отношению к ней всегда отличалось такой предупредительностью, что Кристина порой задавалась вопросом: не скрывается ли там, под бархатной поверхностью этой предупредительности, немного совершенно обыкновенной брезгливости, как если бы в религии Говарда считалось грехом прикасаться к Кристине Ким?
— Я увижу тебя снова? — спросил он.
— Надеюсь, Говард. Действительно надеюсь. — Она снова почувствовала, насколько он сдержан.
— В таком случае с наступающим днем рождения. Кристина отсалютовала ему, выбросив в воздух сжатый кулак. Так было теплее ее длинным пальцам.
— Ага, — сказала она. — Я теперь взрослая.
— Ты была взрослой все время, сколько я тебя знаю, — сказал Говард.
— Да, но для тебя я оставалась ребенком.
— Боже мой, как давно это было, — грустно произнес он.
Кристине от этих слов тоже стало грустно.
— Не так уж и давно, Говард. — Ее нос был заложен, и она тяжело дышала ртом.
Говард помолчал несколько секунд, а затем обнял ее.
— До свидания, Кристина, — почти прошептал он.
— До свидания, Говард, — сказала она, поглаживая его пальто. Слова застревали у нее в горле. Ей не хотелось, чтобы он увидел на ее глазах слезы.
Пока он садился в машину, Кристина отвернулась.
И вот Говард уехал, а она осталась стоять неподвижно на тротуаре, щурясь на солнце. «Я уже по нему скучаю. Надо будет не забыть позвонить через несколько недель и поздравить с Рождеством».
Обед прошел хорошо, она была довольна, но больше всего ее радовало, что все закончилось.
Кристина оглянулась на здание кинотеатра «Самородок». Шел фильм «Век невинности» [8]. Она на мгновение задумалась: не пойти ли? Она даже посмотрела время начала сеанса, но фильм уже начался. Следующий сеанс где-то около пяти, а в это время ее уже будет ждать Джим с «Этикой» Аристотеля под мышкой. А после их ждет ореховый торт на дне рождения у Альберта. Кроме того, Френки уже смотрел эту картину и, смеясь, сказал ей, что кино о столовой посуде. Он говорил, что главную роль в фильме, если присмотреться внимательно, играет севрский фарфор.
Но ей все равно хотелось его посмотреть. Дэниел Дей-Льюис напоминал ей об Эдинбурге, где Кристина смотрела «Мою левую ногу» [9].
Кристина медленно двинулась к редакции «Дартмутского обозрения». Когда она поднималась по лестнице, ее взгляд скользнул по витрине бутика «Редкие предметы первой необходимости», и она увидела пару черных ботинок. Чудесных ботинок.
Проблемы смертной казни могут подождать.
Она вошла внутрь. К ней подошла симпатичная продавщица и спросила, не нужна ли ей помощь.
— Пожалуй, — сказала Кристина. — Я бы хотела посмотреть эти ботинки. Они мне нравятся.
— О, они действительно замечательные, — в тон ей произнесла продавщица. — Из Канады.
— Что вы говорите? Из Канады, — сказала Кристина, улыбнувшись. — В таком случае они, должно быть, действительно замечательные.
Она осмотрела их внимательно, а затем попросила принести размер семь с половиной. Ее размера не оказалось, но был восьмой. Ботинки были немного великоваты. Но ничего. Они были вполне симпатичными, легкими, с кожаными шнурками.
— И они водостойкие, вы знаете? — сказала продавщица.
— Водостойкие? И к тому же из Канады? — произнесла Кристина слегка насмешливо. — Что же еще может требовать девушка от черных ботинок? Сколько они стоят?
— Сто восемь долларов.
Таких денег у нее не было. Из наличных осталось всего три доллара.
Кристина заплатила за ботинки карточкой «Америкен Экспресс». «Через шесть недель у меня будет сто восемь долларов, — подумала Кристина и улыбнулась про себя. — Наверное, я могу себя это позволить».
— Кристина Ким, — удивилась продавщица, вставляя карточку в аппарат для проверки. — Какая необычная фамилия.
— Вы так считаете? — Кристина написала свою фамилию на обрывке бумаги.
— С карточкой все в порядке, — сказала продавщица и вернула ее Кристине. — А ваша фамилия звучит… Даже не знаю, как сказать… Как-то по-восточному.
Кристина внимательно посмотрела на продавщицу:
— А может быть, я тоже выгляжу по-восточному?
— Конечно, нет. Я только…
— Счастливо оставаться, — сказала Кристина, беря коробку с черными ботинками и выходя из магазина. Фу ты!
Ей так нравились эти новые ботинки, что она захотела их тут же надеть. Кажется, Говард говорил о том, что надвигается ненастье со снегопадом. В этом году она свой аттракцион на каменных перилах еще не исполняла. Может быть, во время снегопада это будет в первый раз? Первый раз в новых черных ботинках.
Кристина села на верхнюю ступеньку лестницы, которая вела в редакцию «Обозрения», расположенную в здании Торговой палаты, и начала развязывать шнурки на своих кроссовках.
Спенсер Патрик О'Мэлли только что закончил свой обычный воскресный обед в ресторане Молли.
Такой же традиционный обед, как и десятки других, какие он устраивал для себя каждое воскресенье уже в течение пяти лет. Спенсер был человеком привычек. Заявившись сегодня к Молли, он положил свою меховую куртку на стул рядом и стал ждать, когда подойдет официантка. Ждать пришлось недолго.
Официантка подошла и соблазнительно улыбнулась.
— Привет, Трейси [10].
— Привет, Келли, — сказал он, подумав, что с девушкой можно было бы установить более тесные отношения, если бы она звала его просто Спенсер.
— Сегодня как обычно?
— Если можно, как обычно, это было бы чудесно, — сказал он.
Выходя, Спенсер задержался, увидев плачущую девочку лет семи. Потребовалось несколько секунд, чтобы обнаружить, что ее пальцы застряли в дверной щели. Он освободил ее и, обняв за плечи, завел внутрь, а она все продолжала плакать. С пальцами ничего страшного не случилось, но официантка наложила на них лед, а потом появилась мама девочки. Она, оказывается, спускалась в туалет. Все его благодарили, и Спенсер ушел, размышляя над тем, как это трудно — иметь дело с детьми. Вот в данный момент все у них прекрасно, а уже в следующий ты не знаешь, что и делать.
Засунув руки в карманы, Спенсер прошагал до Норт-Мейн-стрит, обсуждая сам с собой, стоит или нет пройти еще милю до пруда. Было холодно и ветрено, но одет он был соответствующим образом: куртка на овечьем меху, вязаная шапочка и перчатки. Ему было тепло, но все равно пришлось застегнуться на все пуговицы, а перчатки он пока надевать не стал, просто засунул руки в карманы. Кроме того, под джинсами у него был надет мужской нательный комбинезон, а под курткой еще и свитер. Но все равно пробирал холод. Особенно когда ветер бил в лицо.
Иногда, когда зима в Нью-Хэмпшире выдавалась особенно холодная, Спенсер жалел, что, уезжая из своего дома на Лонг-Айленде искать пристанище, он не свернул на юг, на шоссе 1-95. Ему ведь тогда было совершенно все равно, куда ехать. Так почему же он остановился здесь, в этом сонном маленьком городке, где все дома белые, крыши черные, а зимы невозможно холодные?
Опасаясь обморозить лицо, Спенсер потер подбородок. Сегодня он не брился, такую роскошь он позволял себе только по воскресеньям, и только с тех пор, как перестал посещать церковь.
Спенсер двигался по Норт-Мейн-стрит мимо здания Торговой палаты, когда увидел девушку, сидящую на верхних ступеньках лестницы. И, собственно, не девушку он увидел — с надвинутым на глаза капюшоном трудно было вообще что-либо увидеть, — нет, не девушку. Его внимание привлекло то, чем она занималась. Она была босая, даже носки не подложила под свои ступни, которые покоились на каменной ступеньке лестницы. На ней были шорты. Рядом стоял черный кожаный ботинок, другой был у нее в руке.
Такое возможно только в ранней юности. Подумать только, босая в такую погоду! Спенсеру от одного вида ее стало еще холоднее. Одной ногой она твердо опиралась на ступеньку, в то время как вторая была перекинута через колено, потому что пыталась надеть ботинок таким способом. Затем, отказавшись от этого замысла, она опустила ногу и предприняла новую попытку, на сей раз более успешную.
Спенсер, как загипнотизированный, не отрывая от девушки глаз, медленно направился к лестнице. А она продолжала возиться с ботинком. Вместо того чтобы немедленно надеть второй, она начала продевать в первый черные шнурки. Причем не торопясь. Ее нога продолжала покоиться на каменной ступеньке. Взгляд Спенсера медленно передвигался от ее ступней вдоль длинных голых ног к темно-зеленой футболке с символикой Дартмута, а затем и растрепанным ветром волосам. Спенсер вынул руку из кармана и снова потер подбородок.
Кожа у нее была очень бледная, хотя щеки разрумянились от ветра. На мгновение она подняла глаза от ботинок. Их взгляды встретились. У нее было крупное, овальное лицо. Очень молодое. Но это если вы не видели глаз. Они были мягкие, коричневые, а под ними можно было разглядеть (потому что они были достаточно заметны) грустные полукружия, которые делали ее старше. И еще. Ее глаза были обрамлены черными ресницами, милыми, даже прелестными, придававшими всему ее облику налет какой-то ранимости. Комбинация этой невинности в глазах, и этих линий вокруг них, и этих ресниц — все это вместе создавало некую беспокойную, тревожную картину.
Откашлявшись, Спенсер произнес:
— К вашему сведению, на морозе тело человека охлаждается со скоростью один градус в минуту.
— А, — сказала она, и углы ее рта сложились в улыбку. — Спасибо за информацию.
— Да. Но я смотрю на вас уже в течение пяти минут. Может быть, даже шести.
Она отбросила волосы назад, не выпуская из пальцев шнурки.
— Ну и как я выгляжу?
Их взгляды встретились снова, и она улыбнулась ему своими потрескавшимися губами. Он напустил на себя серьезный вид, что оказалось нетрудно, поскольку Спенсер был человек серьезный, и ответил:
— От вашего вида мне становится холодно.

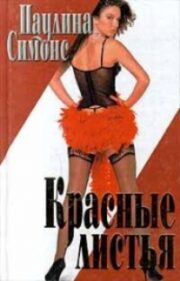
"Красные листья" отзывы
Отзывы читателей о книге "Красные листья". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Красные листья" друзьям в соцсетях.