– Я умираю? – прошептала по-французски Элинор, заставляя наконец кое-как двигаться застывшие губы.
– Нет. Не волнуйтесь, – спокойно и равнодушно прозвучал в ответ голос сиделки. Элинор знала, что это ложь, и первой ее реакцией было негодование. Она привыкла сама распоряжаться своей жизнью, сама сочинять ее фабулу – так же, как сочиняла сюжеты своих бестселлеров. Но сейчас, беспомощная, прикованная к кровати, она полностью зависела от этой сиделки с нудным голосом. Невидимое, неумолимое перо выводило „Конец", хотя Элинор еще не дописала свою историю, и на сей раз хэппи-энда не предвиделось.
Долгие годы Элинор удавалось избегать мыслей о смерти. Подобно многим энергичным, преуспевающим людям, ей не хотелось серьезно задумываться о том, что в один прекрасный день ее не станет. Она не позаботилась о завещании, поскольку это дело потребовало бы принятия тягостных для нее решений, связанных с собственной будущей смертью. Отложив его на потом, несмотря на мягкие, но настойчивые уговоры своего адвоката, она предпочитала попросту игнорировать эту тему и чувствовать себя вечной и непобедимой.
Но сегодня, лежа в этой слабо освещенной спальне, она поняла, что ее непобедимость столкнулась с неизбежностью. Она могла лишь надеяться, что у нее все-таки есть время, чтобы успеть уладить свои дела. И решать надо как можно быстрее, иначе она рискует упустить последнюю возможность сделать это.
Элинор ощутила, как с лица ее наконец сползает давившая на него тяжесть. Она не в силах двигаться, думать или стонать, она абсолютно беспомощна, она целиком зависит от этой чужой, безликой женщины. По всему видно было, что смерть – дело унизительное, и Элинор поняла, что ее беспомощность – это только начало.
Сиделка хлопотала вокруг постели. Ее размеренные шаги внезапно вызвали в памяти Элинор мимолетное воспоминание… Тогда, в далеком теперь 1917 году, покинув маленькую ферму близ Эксельсиора, штат Миннесота, где жила ее семья, она уехала учиться на сестру милосердия. Молоденькая семнадцатилетняя девушка, она еще была настолько начинена идеализмом и романтикой, что воображала себя добрым ангелом, который несет страдающему ближнему спокойствие и поддержку. В то время немало девушек и молодых женщин, движимых стремлением быть полезными на фронтах Первой мировой, добровольно уходили на войну и работали в разного рода вспомогательных службах. Многие из них впервые шагнули за родной порог. Для большинства вместе с домом оставалась позади и пора наивности.
Элинор помнила, какие чувства испытала сама в день прибытия на эвакуационный пункт на севере Франции, куда ее направили. Она думала, что ее ждет там та тишина и порядок, к которым привыкла в больнице, где проходила свою сестринскую практику, и менее всего была готова к тому звуковому кошмару, что обрушился на нее в палате С. То была жуткая смесь рыданий, всхлипываний, бреда, звериного воя, предсмертных стонов, воплей, вырывающихся из широко раскрытых ртов… а над всем этим ужасом специально установленный фонограф наигрывал мелодию „Бинг бойз" – дабы утешить тех, чьи дни уже сочтены.
Теперь, почти полвека спустя, поняв, как мало времени остается ей самой, Элинор потеряла терпение так же быстро, как тогда наивность. Лежа в своей постели, обернувшейся теперь западней, она вдруг с удивлением обнаружила, что боится вовсе не самой смерти как физического акта и уж отнюдь не мысли о том, что придется оставить все, чего она с таким трудом добилась. Главное – ее девочки еще нуждаются в ней: в ее силе, в ее советах, в ее моральной и эмоциональной поддержке. Хотя две из них были уже замужними дамами, а третья весьма успешно занималась бизнесом, Элинор была убеждена, что девочки пока еще не могут обойтись без нее. Безусловно, ее состояние обеспечит им безбедную жизнь и престиж в обществе, но кто же поможет им советом, кто защитит от жизненных невзгод?
Элинор сумела дать внучкам то, чего была лишена сама и чего не смогла дать Эдварду, своему единственному сыну, – жизнь, полностью свободную от каких бы то ни было забот, жизнь, которую целиком можно посвятить лишь поискам своего счастья, а найдя, просто наслаждаться им; жизнь, не отягощенную нуждой – постоянной спутницей самой Элинор на протяжении первых сорока пяти лет ее жизни. Она отступила, лишь когда Элинор – благодаря своему дорогому Билли – сумела добиться успеха и тех благ, что сопутствуют ему.
При воспоминании о Билли веки Элинор медленно приподнялись. В тусклом свете спальни ей удалось разглядеть несколько фотографий в серебряных рамках, стоявших на ночном столике возле постели. И снова ее взор встретился со смеющимся, уверенным взглядом светловолосого парня, которого она так любила. Потрепанная форма, летные очки подняты наверх, руки в брюки; а позади, за его спиной, примитивное сооружение из парусины и реек – его боевая машина.
Билли О'Дэйр был одним из тех немногих, кто умудрился выбраться живым из палаты С. Его штурман сумел вытащить его, потерявшего сознание, из подстреленного и рухнувшего на землю самолета, прежде чем тот загорелся. У Билли было сотрясение мозга, разбита голова, а в левой ноге застряла пуля, перебившая пяточную кость.
Почти пять десятков лет спустя Элинор все с тем же ощущением счастья вспомнила тот вечер, когда она влюбилась в Билли О'Дэйра. В палате было относительно тихо, когда, вскоре после полуночи, с койки № 17 вдруг донеслись душераздирающие рыдания. Схватив фонарик, Элинор поспешила туда. Она осторожно трясла раненого за плечи, пока он не проснулся, – это оказался всего лишь дурной сон. Однако пилот О'Дэйр продолжал всхлипывать, прижавшись к руке Элинор. На его голове был целый тюрбан из бинтов, закрывавших и часть лица, но свет фонарика отражался в глазах молодого человека, превращая зрачки в крошечные, как булавочный укол, черные точки на фоне какого-то необыкновенного, ярко-аквамаринового цвета. Элинор подумала, что в жизни не видела ничего более прекрасного.
– Простите, – наконец пробормотал он. – Раскис, как последний идиот…
– Ничего, ничего. У многих раненых бывают кошмары, – успокаивала его Элинор, осторожно пытаясь высвободить свою руку. Сквозь смешанную вонь одеяла грубой шерсти и антисептиков, пропитавших бинты, она ощущала сильный, такой мужской запах его тела. Он больше не всхлипывал, и Элинор знала, что ей пора уходить, но никак не могла отвести взгляд от его глаз.
Раненый № 17 приблизил руку Элинор к своим губам, и его светлые усики укололи пальцы. На мгновение ей показалось, что он хочет поцеловать руку, однако вместо этого он повернул ее ладонью к себе и прижал к губам. Его теплое дыхание словно ласкало Элинор… и тут Билли О'Дэйр нежно лизнул ее ладонь. Она почувствовала, как его язык медленно скользит по ее коже, и снова подумала, что ей надо бы уйти; но ее ноги как будто приросли к плиткам пола. Она лишь чувствовала, что жар стыда и смущения поднимается откуда-то изнутри, заливая краской лицо, она почти перестала дышать; а Билли продолжал ласкать ее руку своим теплым, как у кошки, языком. Из этого состояния, похожего на транс, Элинор вывел только вскрик, донесшийся с другой койки.
К утру сестра Элинор Дав уже знала наизусть историю болезни раненого № 17. И знала также, что Уильяму Монморенси О'Дэйру, пилоту Королевских военно-воздушных сил Великобритании, двадцать пять лет.
Каким-то странным образом всей палате немедленно стало известно, что сестра Дав влюбилась в О'Дэйра. Виноградно-зеленые глаза Элинор прямо-таки искрились под белой, похожей на монашескую, косынкой, и без того румяные щеки просто цвели розами, походка стала летящей, и старшей сестре даже пришлось сделать Элинор внушение за то, что за работой она тихонько напевала про себя.
Джо Грант, бывший штурман Билли, при первом же посещении палаты С понял, что к чему. Он сказал Билли, что тому чертовски повезло, потому что сестра Дав – это нечто особенное, совсем не то, что другие. Когда Билли передал это замечание Элинор, она презрительно фыркнула:
– Вы, мужчины, говорите это всем девушкам. Что это во мне такого особенного?
Билли задумчиво посмотрел на нее, а потом ответил:
– Рядом с вами наши английские девушки выглядят словно бы и вовсе не живыми – так, какие-то бледные фотографии. А в вас столько жизни! Вы прямо-таки излучаете энергию и заражаете ею других. – Он помолчал, подбирая точные слова. – Это, похоже, вообще свойственно американцам. Ваши солдаты – они такие же, я сам видел; в них есть что-то такое, чего нет в наших или французских ребятах. Но, как бы то ни было, вы – действительно явление неординарное.
Глядя снизу вверх со своей подушки, Билли приподнял правое плечо и, чуть склонив к нему обмотанную бинтами голову, нежно улыбнулся сестре Дав. С этого момента и навсегда Элинор была покорена окончательно и бесповоротно. Даже годы спустя, когда они уже были давно женаты и Элинор слишком хорошо знала истинную цену любви, эта улыбка Билли, в которой искрился весь его беззаботный ирландский шарм – сложная смесь наивности и лукавства, – мгновенно гасила ее гнев.
В течение двух лет, прошедших со дня их встречи, Элинор помнила эту неотразимую улыбку; именно таким она любила представлять себе Билли. Фактически только таким она и позволяла себе помнить его – улыбающимся, бесстрашным молодым героем, ставшим ее романтической любовью. Последовавшие за этим менее приятные воспоминания она упрятала в какой-то очень дальний угол ее памяти.
„Жаль, что в те времена еще не существовало цветной фотографии", – подумала Элинор, глядя на порыжевший снимок в серебряной рамке. Все три внучки унаследовали от Билли его аквамариновые глаза, хотя у одной лишь Миранды была та же лукавая улыбка. От Элинор же им досталось в наследство…
Внезапно Элинор снова вспомнила, что таи и не составила завещания. Ее наследство – да, она должна этим заняться. Глаза ее закрылись, но усилием воли Элинор заставила себя вновь открыть их. Не сразу, постепенно, но все же очертания окружавших ее предметов приобрели четкость.
Сиделка склонилась над больной:
– Вы можете открыть рот, мадам?.. Вот так… еще немножко…
Из носика чашки-поильничка она влила в рот Элинор несколько капель воды, затем осторожно и аккуратно смазала смягчающей мазью ее пересохшие губы.
С трудом и болью Элинор выговорила:
– Где… мои… внучки?
Она не чувствовала половины лица, не могла управлять ею, поэтому произносила слова медленно и нечетко, смазывая звуки, как пьяная. Ей удалось пошевелить пальцами правой руки и ноги, но левые не слушались: казалось, их не было вовсе.
Чувствуя, что еще немного – и панический ужас овладеет всем ее существом, Элинор вспомнила, как еще девочкой, просыпаясь ночью, она первым делом хваталась за свои четки, чтобы отогнать силы зла; так и теперь она ухватилась за то единственное, что могло успокоить и приободрить ее. Каркающим голосом, но настойчиво она повторила:
– Где мои внучки?
– Я думаю, молодые леди на террасе. Сейчас позову.
Сиделка подошла к окну и подняла шторы. Да, сестры действительно были на террасе, не обращая внимания на послеполуденную жару. Сиделка высунулась и окликнула их.
Элинор со своей постели услышала взволнованные голоса и тут же быстрый легкий скрежет металлических стульев о кирпичные плитки пола. Она слабо улыбнулась, стараясь не слишком жмуриться от внезапно нахлынувшего света.
Несколько минут спустя дверь спальни распахнулась. Прежде всего Элинор увидела бледное, но оживленное лицо Клер в обрамлении длинных, прямых, темных волос.
– Дорогая, мы так беспокоились!
Голос у Клер был высокий и нежный. Она подбежала к кровати, опустилась на колени и поцеловала бабушку, потом прижалась губами к ее худым, в голубоватых венах, рукам.
– Не перевозбуждайте ее, – предупредила сиделка.
– Теперь моя очередь! – потребовала от двери Аннабел. Ее длинные волосы цвета меда были еще влажны и расчесаны после купания. В течение последних семи лет прекрасное лицо Аннабел улыбалось миру со всех без исключения реклам косметики знаменитой фирмы „Аванти". При виде Аннабел Элинор всегда вспоминались белые персидские котята, пуховые перины и бледно-розовые пионы – такая в ней была разлита мягкость, чувственность и женственность. Аннабел нежно погладила бабушкины длинные, светлые, седые у корней волосы, которые веером лежали на подушке. Она поцеловала Элинор в запавшую щеку и прошептала:
– Ох, Ба, мы уже думали, что потеряли тебя.
С любовью глядя на бабушку, обе сестры чувствовали, как к глазам подступают слезы. Только Клер, старшая, хоть немного помнила отца и мать (погибших в 1941 году при налете германских бомбардировщиков на Лондон), так что Элинор всегда была центром их мира. Они не могли представить своей жизни без нее. Казалось, в ней слились воедино Айседора Дункан и Элинор Глин, ибо в ней была та же отвага, драматизм и бессмертие.
– Где Миранда? – прошептала Элинор.
– Ей пришлось на денек вернуться в Лондон – какое-то заседание, – мягко проговорила Клер. – Мы все здесь уже две недели. Аннабел примчалась из Нью-Йорка сразу, как только мы узнали, что ты больна, а вот у меня в Лос-Анджелесе вышла небольшая задержка. Миранда вернется сегодня же вечером – вертолетом.

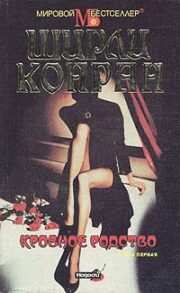
"Кровное родство. Книга первая" отзывы
Отзывы читателей о книге "Кровное родство. Книга первая". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Кровное родство. Книга первая" друзьям в соцсетях.