– У меня тут один парень с дифтерией, – сообщила она. – Ему совсем худо. Надо бы скоренько посмотреть его. Кроме того, у него на левой ноге разбита коленная чашечка и перелом большой берцовой. Раздобудь-ка хирурга, а?
Измученный молодой хирург взглянул на с трудом дышавшего рыжеволосого солдата и сказал:
– Трахеотомия. Сестра, давайте его на стол. Нельзя терять ни минуты. – Он махнул рукой в сторону смежной комнатки, оборудованной под операционную для экстренных случаев.
Лежа на столе, парень хватал ртом воздух – пленка в горле уже начала душить его.
Хирург мотнул головой в сторону Элинор:
– Держите ему голову! – Потом обернулся к девушке-водителю: – Вы сумеете подержать ноги?
Та кивнула.
Когда Элинор плотно прижала голову несчастного парня к подушечке, набитой лесном, хирург повернулся к столику на колесах, где на лотке лежали инструменты, и взял скальпель. Элинор увидела, что его рука дрожит. Последние дни были очень тяжелыми.
Хирург взглянул на Элинор и заколебался. Если он случайно заденет яремную вену, пациенту конец.
„Господи, – взмолилась про себя Элинор, – пусть все будет хорошо!"
Врач все еще не решался начать. Дрожь правой руки не унималась.
В горле больного уже не хрипело, а булькало. „Если доктор не начнет сейчас же, этому парню в любом случае крышка", – подумала Элинор.
Склонившись над рыжей головой солдата, хирург быстрым движением скальпеля произвел надрез.
Хлынула широкая алая струя.
Элинор продолжала глядеть на умирающего, потому что ей не хотелось смотреть на хирурга. Тот пробормотал слабым голосом:
– Приберите здесь, сестра, и унесите его. Я, пожалуй, пойду.
Когда врач вышел, Элинор взглянула на долговязую девушку: та, с белым как мел лицом, широко раскрытыми темными глазами смотрела не отрываясь на рыжего парня, только что скончавшегося на столе.
– Ты знала его? – тихо спросила Элинор.
У девушки стучали зубы, когда она медленно, с трудом выговорила:
– Мы с Джинджером собирались пожениться… Позже, в комнатке Элинор, обе девушки пили из одной жестяной кружки какао без молока. Новая знакомая Элинор все еще была бледна, но еще не проронила ни слезинки, и, наблюдая за ней, Элинор поняла, что та находится в состоянии шока: она двигалась как лунатик, но разговаривала так, словно ничего особенного не произошло.
– Бедняга Джинджер был санитаром при моей машине. Теперь, конечно, его матери напишут, что он геройски погиб за родину и короля. На самом-то деле он просто споткнулся о чей-то сапог и свалился в траншею: какой-то идиот случайно прострелил ему колено, а потом он слишком долго валялся на земле. Ну, а теперь вот его еще и пырнули не туда, куда надо…
– Доктор тоже всего-навсего человек. Ошибиться может каждый, – еле слышно произнесла Элинор. – И я, и ты.
Девушка вздохнула:
– Да, вся эта проклятая война – сплошная ошибка.
– Как тебя зовут? – спросила Элинор.
– Шушу Мэнн.
– Это больше похоже на американское имя, чем на английское.
– Верно. По-настоящему-то я Дорис. А Шушу меня прозвали американские ребята за то, что я вроде как всегда первой узнаю все новости. Ну, вроде как кто-нибудь кому-нибудь что-нибудь шу-шу-шу на ухо, а я тут как тут. Да дело-то не в этом. Собирать сплетни – это не по мне. Просто разуваешь глаза и уши, болтаешь с ходячими ранеными, пока они не попадут в руки к вашему брату – медику… Ну и чертова же у вас работа, сестричка.
– Твоя, по-моему, тоже не из легких.
– Мне здорово повезло, что меня взяли на санитарную машину, – сказала Шушу. – Вообще-то военное ведомство не очень жалует рабочих девчонок из Тутинга вроде меня: они там любят барышень поприличнее. Мы ведь все добровольцы и работаем, в общем-то, за спасибо.
– Тогда как же тебе удалось? – спросила Элинор.
– Я работала в одной семье в Уимблдоне – люди неплохие, солидные, прислуги девять человек. Так вот наша мисс Рут пошла в добровольцы, а хозяйка возьми да и отправь меня вместе с ней – ну, чтобы вроде присматривать, значит. Пришлось, конечно, прибавить себе несколько годков: сказать, что мне не восемнадцать, а двадцать три. А мисс Рут – она ничего, только не привыкла к такой жизни. Не прошло и трех недель, как подхватила она воспаление легких, чуть не померла, вот и пришлось ее отправить назад, в Блайтли. А я вот осталась. Начальница не обращает внимания на то, что я недостаточно хорошо воспитана – это она так говорит, я сама слышала, – потому что я разбираюсь в машине, а это ведь не всякая может.
С того вечера девушки стали часто встречаться в комнатке Элинор. Молодую американку интриговала, и одновременно притягивала грубоватая простота Шушу, ее полное безразличие к тому, что о ней думают другие, ее презрение к любому начальству, глубоко запрятанная доброта и тепло ее души.
Спустя пару месяцев после того вечера, когда Элинор утешала как могла только что потерявшую своего Джинджера Шушу, пришлось точно так же и Шушу утешать Элинор, которую, зайдя к ней в комнатку, она нашла беззвучно рыдающей на узкой, твердой койке.
– Что стряслось? – спросила Шушу.
Не отвечая, Элинор протянула ей письмо.
„Дорогая Нелл, – прочла Шушу, – мне очень трудно сообщать тебе об этом, но твоей дорогой мамы больше нет. Она шесть месяцев болела туберкулезом, но не разрешала писать тебе. В прошлое воскресенье, около пяти часов, она тихо отошла в лучший мир, и в среду мы похоронили ее. Я ухаживал за ней как умел. К ней приходил доктор Маккензи, я покупал лекарства, но было уже поздно. В воскресенье она говорит мне: слушай-ка, Мариус, мне лучше. Ничего, что я так исхудала. Теперь, когда я выздоровела, ты можешь откармливать меня, как рождественского гуся. Занималась всем контора Каскета, Норса и Грейва, похоронили честь по чести, у Пресвятой Девы, в дальнем левом углу, если смотреть от паперти. Моя бедная старушка была в своем венчальном платье, а сама худющая – кожа да кости. Все-таки я очень любил ее, хотя и нечасто говорил ей об этом. Твой убитый горем отец Мариус Ф.Дав". Наконец Элинор вымолвила сквозь слезы:
– По крайней мере, это значит, что мне никогда не придется снова пережить это.
Шушу и Элинор были подругами в течение сорока семи лет, и за все эти годы они не сошлись лишь в одном: Шушу никогда не нравился Билли.
Элинор повернула голову, чтобы еще раз взглянуть на фотографию Билли, стоявшую на столике у кровати. Ей снова припомнилось унижение, которое она часто испытывала из-за высокомерия его родни, хотя в конце концов именно Элинор довелось вернуть семье Билли былое величие. Теперь Элинор была знаменитостью, и общество принимало ее так, как никогда не принимало никого из тех людей. И уж, конечно, Элинор не собиралась совершать финансовых промахов, совершенных когда-то ими.
Теперь ее окружали блаженная теплынь летнего прованского дня и роскошь сарасанского замка – ее жилища. Глядя снизу вверх на Шушу, Элинор произнесла все еще слабым, но исполненным решимости голосом:
– Я должна быть уверена в том, что у девочек всегда все будет в порядке… Я хочу, чтобы они были счастливы, чтобы им не приходилось тянуть лямку… чтобы они имели то, чего не было у нас с тобой: много времени, чтобы наслаждаться жизнью, чтобы думать. Чтобы побольше быть со своими детьми, а не рваться так, как я, когда растила моего Эдварда.
– Ты сделала для него все, что могла, Нелл, – успокоила ее Шушу, – все, что человек должен делать для своего ребенка. Может, оно и лучше, что он был у тебя только один. – Почему это было лучше, Шушу уточнять не стала.
– Я хочу сейчас же видеть Адама, – прошептала Элинор.
– Я не допущу никаких деловых разговоров до тех пор, пока ты не перестанешь шепелявить, – заявила Шушу. – Подождем, когда ты выиграешь у меня в скрэббл.
До болезни Элинор они ежедневно, в пять часов, играли по одной партии. На конец прошлого года общий счет был 329: 36 в пользу Шушу.
– Шушу, это – срочное дело. Я не составила завещания.
Шушу обернулась:
– Совсем оно не срочное, старая ты дуреха. Важное, но никак не срочное. Тебе придется подождать! Я не пущу сюда этого красавчика Адама, пока доктор не разрешит. И давай кончим об этом. Пойду приготовлю тебе тарелку бананового пюре со сливками. Ты сможешь есть его чайной ложечкой. Уж я-то знаю, что тебе по вкусу, Нелл.
Элинор улыбнулась. Ей, проведшей всю свою жизнь в заботах о других, было так странно, но приятно лежать вот так, с закрытыми глазами, пока другие суетятся вокруг нее, разговаривают шепотом и решают за нее все проблемы.
Понедельник, 19 июля 1965 года
Две недели спустя Адам, сидя на серебристо-серой софе возле камина в спальне Элинор, проворно доставал из портфеля бумаги и раскладывал их на стоявшем перед ним низеньком столике. Шушу предупредила, что в его распоряжении всего лишь несколько минут.
Голос Элинор звучал еще слабо, и у нее по-прежнему работала только правая половина рта.
– Жаль, что я не сделала этого раньше, Адам, – сказала она.
– Ничего страшного, спешить нам некуда, – Шушу хорошо проинструктировала адвоката. – Хотя, если хотите, мы могли бы заняться этим прямо сейчас.
Элинор с трудом приподняла голову.
– Оставь эти бумаги, Адам. Иди сюда и сядь рядом.
Подходя к кровати, Адам бросил взгляд на фотографии, стоявшие на столике. На одной из них была запечатлена группа летчиков времен Первой мировой войны, и Адам подумал: как грустно, что один из этих веселых, беспечных парней, чьи молодые лица озарял отсвет только что одержанной победы, превратился со временем в его рассудительного, осторожного, пунктуального отца – столпа местного общества, уважаемого коллегами юриста, человека, которому его супруга никогда не позволяла забывать о том, что он женился на дочери своего патрона и должен быть достойным этой чести. Так он и поступал, никогда не выказывая своих истинных чувств, пряча их за фасадом размеренной, раз и навсегда налаженной жизни в уютном семейном особняке в сельской местности, неподалеку от Лондона.
Вид Элинор, еще так недавно балансировавшей на грани жизни и смерти, на какое-то мгновение поколебал привычную сдержанность Адама. Ее немощность, бледность ее лица и больничный запах, стоявший в комнате, напомнили ему о его собственной, не такой уж давней потере. Его отец долго и медленно умирал от рака легких, и, когда его не стало, для Адама горше всего было потерять то, чего он, в сущности, никогда не имел: мужскую дружбу, которая возникает между отцом и сыном и которую он не раз наблюдал в семьях своих товарищей. В детстве он мало общался с отцом, заточенный в детской по воле матери, предпочитавшей своим материнским обязанностям игру в бридж. Он жалел, что, и став старше, не сумел понять своего старика, в действительности вовсе не такого сурового и требовательного, каким он старался казаться. Лишь став взрослым, Адам понял, что единственным желанием отца было помочь своему старшему сыну прочно встать на ноги в этой жизни и не зависеть ни от кого. Когда Адам начал работать у Суизина, Тимминса и Гранта, отец всячески избегал каких бы то ни было контактов с ним в стенах конторы, чтобы не создавать впечатления, что он как-то выделяет его среди других клерков. Адам знал, почему отец так поступает, но в то время это сильно задевало его.
Заметив взгляд, брошенный Адамом на фотографию, Элинор прошептала:
– Я до сих пор сожалею о смерти твоего дорогого отца. Джо так хорошо вел мои дела, особенно после того, как не стало Билли.
Адам улыбнулся успокаивающе:
– Я здесь для того, чтобы помогать вам так же, как это делал отец. Вам нужно только сказать мне, что вы хотите, и я все устрою. У меня здесь полный список ваших активов. Может быть, вы хотели бы, чтобы… когда-нибудь, в будущем… какое-либо лицо или лица… получили их в свое распоряжение? Если да, я составлю… соответствующий документ и представлю его на ваше рассмотрение.
Элинор не отвечала, и Адаму пришло в голову, что, возможно, она стала медленнее соображать. Он сказал:
– Вы хотели бы оставить какие-нибудь деньги вашим родственникам в Америке?
Элинор на мгновение представила себе своего брата и подумала: интересно, жив ли он, есть ли у него дети? Она вспомнила, как ревновала отца к Полу, которого он столь явно любил, и как заставляло ее страдать столь же явное пренебрежение отца к ней самой. Она всегда чувствовала себя виноватой, что родилась на свет девчонкой, то есть существом, недостаточно сильным для того, чтобы справляться с тяжкой, бесконечной работой на их миннесотской ферме. Все ее детство прошло под страхом угрозы отцовской ярости, при мысли о которой она сжималась в комок, превращалась в жалкое, обезумевшее от ужаса существо. Она панически боялась отца, а тот, казалось, только и ждал случая, чтобы сорвать на ней – именно на ней – свой гнев. Как она надеялась хоть на какой-нибудь, пусть самый маленький, пусть один-единственный, знак того, что отец любит ее! Но вся любовь, какую она знала в детстве, исходила только от матери, всегда печальной, забитой, сломленной жизнью. Элинор до сих пор помнила то чувство облегчения, которое испытала, расставшись с домом и семьей. Она медленно покачала головой:

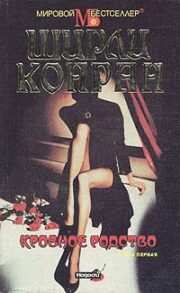
"Кровное родство. Книга первая" отзывы
Отзывы читателей о книге "Кровное родство. Книга первая". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Кровное родство. Книга первая" друзьям в соцсетях.