В дешевой французской кафешке «Pain et Beurre» человек по имени Гордон Стори внезапно выронил надкушенную булочку с ветчиной и горчицей и ткнулся лбом в стол. Будь он жив, то очень расстроился бы, потому что плешь на макушке, которую он всегда так тщательно прикрывал, оказалась у всех на виду. Поначалу, однако, плешь никто не заметил. Человек сидел за столом в одиночестве, и, если бы не затрезвонил его мобильник, на него еще долго не обратили бы внимания. (В излишнем внимании к клиентам официантов из «Pain et Beurre» не обвинишь.) Но телефон все звонил, и вскоре посетители начали оглядываться на этот столик и спрашивать, не случилось ли чего. Вспомнили также, что за столом вроде бы сидели двое.
Второй действительно был. Однако в ту минуту, когда у Гордона остановилось сердце, его брат и сотрапезник Арт Стори расстегивал штаны в туалете и трепался с соседом по писсуару Марселем Ришелье, шеф-поваром и владельцем «Pain et Beurre». Марсель, основательно благоухающий беспошлинным «Голуазом», только что вернулся из Парижа и был набит историями о француженках, «свежих и сочных, как вскормленные на чистейшей кукурузе цыпочки».
Насколько я поняла, Арт заслушался, застрял в уборной, Марсель извлек полную пачку «Голуаза», и они вдвоем перенеслись на левый берег Сены. В Париже весна, у обоих улыбки до ушей, в карманах дорожные чеки, на левой руке у каждого по белокурой цыпочке, а на правой — по цыпочке— брюнетке. Словом, Арт блаженствовал в Париже, но поверьте: знай он, что его старший брат уже рухнул на пол рядом с недоеденной булочкой, он помчался бы домой первым же рейсом.
Но Арт ничего не знал. Да и откуда? Ведь всего за пару минут до того Гордон был жив и здоров.
— То есть я думаю, что он был жив, — позже объяснил Арт медсестре. — Про Гордона трудно сказать наверняка.
Кроме того, из зала кафе не доносилось тревожных звуков, которые могли бы насторожить Арта. Ни криков, ни визга, ни воя сирены. Напротив, там было до странности тихо. Молодой врач, ради Гордона покинувший дежурное блюдо (нежнейшую телятину в горшочке), методично делал искусственное дыхание рот в рот. Собравшиеся едоки, включая разбитную кассиршу, которая обедала с доктором, уважительно наблюдали.
Довольно долго тишину нарушали лишь священные докторские вдохи и выдохи. А затем у покойника снова зазвонил сотовый телефон. Требовательно, беспардонно, настырно. По залу разносился выбранный Гордоном сигнал — увертюра к «Вильгельму Теллю», — и никто не мог найти телефон, чтобы его отключить. От звонка всем стало не по себе, не только из-за убогой синтезаторной аранжировки. Слишком уж резким был контраст между бравурной музыкой и неподвижно распростертым телом. Присутствующие вдруг осознали, что каких-то пять минут назад покойник сам мог бы взять трубку. Его жизнь еще текла своим чередом, как и их жизни. Он сейчас мог бы разговаривать с женой, или с начальством, или даже с любовницей. Строил бы планы. А что вышло? «Поневоле задумаешься», как сказали сразу несколько человек в кафе.
Телефон все звонил и звонил, а молодой доктор все дул и дул… и вдруг Гордон чудесным образом ожил. Он открыл глаза и дрожащим пальцем указал на свой плащ, висевший поблизости на крючке.
Гордон был жив. Телефон трезвонил в кармане его плаща. Посетители кафе благоговейно уставились на молодого врача, мигом простив ему и прыщи, и унылую стрижку, и то, как он отослал обратно суп, решив, что там слишком много укропа. Он стал героем. Бойкая кассирша тоже смотрела на него другими глазами. Кто бы подумал, что воскрешение может так завести женщину?
Но строго говоря, разве Гордона воскресил доктор? Сомневаюсь. По-моему, его воскресил телефон.
— Вот уж чего Гордон терпеть не может, — позже сказал Арт Марселю, — так это пропущенных звонков.
Ну и почему все лавры достались доктору? Ведь это я на другом конце города упрямо тыкала в кнопочки. Гордон был моей зацепкой для серии статей «Умом и сердцем», и в тот день у нас была назначена встреча.
Жаль, никто не позвонил моему отцу, когда у него случился инфаркт. Но в те дни еще не знали мобильников, а в театре округа Чатсвуд, на сцене которого отец потерял сознание, имелся один— единственный телефон, в кассе. И кто-то висел на проводе все то время, что утекала папина жизнь. К тому же со звонком в «скорую помощь» вышла путаница. Таня Чан, девятнадцатилетняя воспитательница, игравшая графиню Бабетту (и сиделку), пыталась туда дозвониться, но так и не смогла. Позже выяснилось, что она набирала 911 вместо трех нулей. (Насмотрелась американских сериалов про «телефон спасения», не иначе.)
— По телевизору всегда звонят девять— один— один! — рыдала она потом, дергая себя за локоны завитого сценического парика. — Откуда мне знать, что у нас не такой номер, как в Штатах! По телику-то не говорили! А вы знали?..
Все происходящее сильно отдавало дурным фарсом. Что очень символично — ведь в момент приступа отец как раз проводил генеральную репетицию «Доктора и графини», фривольной французской комедии. Я помню все до мелочей. Я почти забыла, как выглядел отец при жизни, но предельно ясно помню его смерть.
Актеры уложили его на бутафорскую кровать с пологом. Над ним склонился врач, точь-в-точь как над Гордоном в кафе «Pain et Beurre». Но, увы, папин врач, доктор Пьер Ротшильд, с почтенной седой бородой и в цилиндре, в миру был бухгалтером по имени Джим Флэтмен.
Мистер Флэтмен старался изо всех сил. Он вдувал и выдувал воздух и жал папе на грудь. Но что может бухгалтер знать об искусственном дыхании?
— Хотел ведь, всю жизнь хотел пойти на курсы первой помощи! — стонал он после и бил себя в грудь. — Но увяз в налоговом законодательстве. Правительство само не знает, что творит. Каждую неделю новые законы и поправки!
Мне было десять лет, и незадолго до того я с похвальной грамотой закончила курсы Красного Креста при нашей школе. Неделю напролет я зажимала нос моей подруге Элисон Ричардсон, дула ей в рот и давила на грудь. Поэтому я поняла, что мистер Флэтмен делает что-то не так. Я только не могла сообразить, что именно. Я думала об одном: фальшивый доктор порвал папину любимую рубашку, чтобы добраться до его груди, и папа страшно расстроится. Рубашка была фланелевая, в красную клетку, с большим карманом.
Я хотела что-то сказать. Я пыталась, но слова не шли. Папино сердце совсем не билось, зато мое колотилось вдвое чаще, чем нужно. Потом я поняла, что воздух, который мистер Флэтмен вдувает в папу, тут же выходит обратно. Но было уже поздно.
Мистер Флэтмен попросту забыл зажать папе нос. Только и всего.
Гордону Стори повезло больше, чем моему отцу. У него был не только настоящий врач, но и телефонная поддержка. Официантка точно знала номер «скорой помощи». Я тоже делала свое дело: не покладая пальца жала на автодозвон. Я вызывала Гордона по мобильной связи. Вызывала из небытия.
Я названивала с работы, потому что посеяла адрес его «Школы Решительного Шага», который нацарапала на каком-то клочке. Мы с Гордоном должны были встретиться в два часа.
Шейла хотела, чтобы я прошла все двенадцать сеансов его курса и потом описала свой опыт. Для чистоты эксперимента я не сказала мистеру Стори, что я журналистка и собираюсь о нем писать, и оставила ему домашний адрес, а не рабочий. Вообще-то это было нарушением журналистской этики. У меня есть подруга, которая нажила крупные неприятности из-за статьи о гадалках и предсказателях. Она обращалась к ним, скрыв свою профессию, а потом разоблачила одну гадалку в своей статье. Цыганка подала на журнал в суд, и в результате ее мрачные предсказания о будущем моей подруги (смена работы и проблемы с деньгами) сбылись до последнего слова.
Я уже опаздывала, а все мои звонки уходили в никуда. В приемной Гордона Стори бубнил автоответчик, а на сотовом после уймы звонков срабатывала голосовая почта. Психотерапевт называется — плюет на вызовы! Я начала волноваться. И не только за мистера Стори.
Пока я терзала телефон, Софи да Лука фланировала по редакции, раздуваясь от гордости. С тех пор как ей пообещали рубрику, она словно бы ежеминутно увеличивалась в размерах. К примеру, ее знаменитые… Ей-богу, они теперь выпячивались еще круче, чем утром. Разве так бывает? И вообще она стала ярче, будто кто-то взял пульт и добавил ей цвета. Ее канареечно— желтая блузка слепила глаза. Я нацепила темные очки и еще раз набрала номер Гордона.
— Привет, Джули! — Медоточивая Софи подошла ко мне и взгромоздила зад на край моего стола.
— Извини, занята, — я тоже послала ей улыбку, — деловой разговор. — В трубке вновь бормотал автоответчик Гордона Сгори.
— Правда, здорово? — конспиративным шепотом вопросила Софи и уточнила: — Я про наши новости.
Я отняла трубку от уха и сунула ей под нос. Похоже, мое объяснение слишком сложно для ее понимания. Может, наглядность подействует.
— Когда Шейла сказала мне…
Боже. Только не это. Неужто явилась позлорадствовать?
— …она очень тепло ко мне отнеслась. Польщена. Шейла меня так высоко ценит.
Видите? До нее не дошло.
Телефон Гордона Стори вырубился. Надо думать, из солидарности со своим хозяином, хотя тогда я этого не знала. Я нацарапала на клочке бумаги его рабочий номер и протянула Софи:
— Будь любезна, звякни туда еще разок— другой. Если застанешь кого-нибудь, попроси перезвонить на мой сотовый.
Мне пора было уносить ноги. Я подхватила сумку и потянула свой блокнот из-под задницы Софи. Она услужливо сдвинулась, и я изобразила самую широкую улыбку, какую смогла, учитывая, что к этому моменту уже почти ослепла. Софи стала еще ярче за то время, что проторчала около меня. Ее груди под канареечной тканью буквально извергали лучи света, как мощные фары на сельской дороге.
В машину я садилась, вероятно, в тот самый момент, когда санитары везли Гордона Стори через обеденный зал «Pain et Beurre» к карете «скорой помощи». Насколько я знаю, его состояние было стабильным и он уже пришел в себя настолько, что попросил санитаров притормозить у кассы, где достал из бумажника кредитку и расписался на квитанции. Произошла небольшая задержка, пока официантка звонила и проверяла состояние счета, но вскоре каталка оказалась на улице.
Вернувшись из мужской уборной, Арт как раз успел увидеть, как его старшего брата засовывают в «скорую». Арт был в шоке. Всего минуту назад он гулял в садах Лувра с аппетитной цыпочкой, а теперь колотил в дверь микроавтобуса.
— Подвинься, парень, я с вами, — сказал он санитару. — А что это с ним? Это из-за свинины?
4 Арт
Жизнь коротка… но бог ты мой, вечер четверга нескончаем.
К свинине я отношусь с подозрением. Я не еврей, но очень уважаю эту нацию. Неспроста же целое племя весьма неглупых людей, многие из которых могут позволить себе любые блюда, решило воздержаться от вкуснейшего мяса! Отказаться от яичницы с беконом? От свинины под ореховым соусом? Нет, тут явно что-то кроется.
Однако в тот день, когда у брата случился инфаркт, мне не удалось развить свиную тему перед санитарами, потому что Гордон попросил меня остаться и присмотреть за его машиной. Гордон обожает свою машину.
— Отгони ее к моему офису, — сказал он слабым шепотом. — Там у меня на столе лежит органайзер. Привези его в больницу вместе с моим плащом и портфелем. И не забудь позвонить Мишель.
Мишель — жена Гордона и моя невестка. В обычной ситуации я скорее откусил бы себе ногу, чем стал ей звонить.
— И еще, Арт, — шепнул Гордон, — пообещай мне кое-что.
Я наклонился и взял его за руку. Уже много лет я касался его руки только в кратком пожатии. Его ладонь оказалась мягкой и пухлой. Как у ребенка. Я крепко сжал ее и навис над Гордоном, как мать над малышом на оживленном перекрестке. В ту минуту я был готов ради него на все: я продал бы дом (если бы он у меня был), прошел босиком через весь континент, пожертвовал бы почку.
— Все, что хочешь, Гордон. Ты только скажи.
— Не кури в моей машине.
Гордон ездит на «вольво» новейшей модели, где есть все новейшие прибамбасы: навигационный контроль, кондиционер, воздушные подушки и автоматический регулятор высоты кресла. Приборная доска оснащена всеми вообразимыми датчиками и предупреждающими сигналами, кроме одного-единственного, который был по-настоящему нужен Гордону в тот день, — «угроза инфаркта».
Я езжу на классическом, чтобы не сказать потрепанном, серебристом «ситроене» с регулируемой подвеской (иногда регулируемой, если уж начистоту).
В тот день я, как обычно, опоздал на обед — нарезал круги по кварталу в поисках места для парковки. Мимо окон «Pain et Beurre» я проезжал чуть ли не каждые пять минут и ободряюще махал Гордону, который ждал меня в кафе. Видимо, мне не удалось взбодрить его как следует.

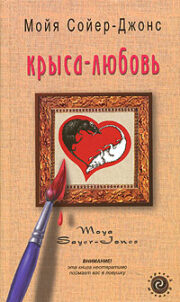
"Крыса-любовь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Крыса-любовь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Крыса-любовь" друзьям в соцсетях.