— Не помню. Кажется, Виталик говорил. Но я не помню точно.
— Все это сплетни. Ксюша попала в больницу с острым приступом аппендицита, ясно?
— Семейная тайна за семью печатями.
— Хотя бы и так. Тем более, что ты не Барсов, а Суров, Петуня.
Петя надул губы и отвернулся.
— Ладно, мир, да? — Леля дотронулась до его локтя. — Ксюшка на самом деле выжрала килограмм димедрола. Но не потому, что ее не пустили на чемпионат.
— А почему?
— Если честно, Ксюшку меньше всего интересовали спортивные успехи сами по себе, хоть она и весьма тщеславная особа. Больше всего ее интересовал успех у мужчин. Где медали — там и успех, верно? Вот почему она с таким упорством зашнуровывала каждый божий день свои ботинки. Ей четырнадцати не было, когда она попробовала с мужчинами. Ей это очень понравилось. Она без ума влюбилась в Кустова, их балетмейстера, а он был большим любителем путешествовать по чужим койкам. Я только одного не могла понять: откуда она взяла столько димедрола?
— И ты решила последовать примеру своей сестры?
— Не в том дело. Когда я лежала со сломанной лодыжкой, я слышала чей-то голос. Он звал меня, окликал по имени. Я не находила себе места. Я… Словом, я была такой идиоткой. Это больше не повторится.
— Когда ты снова услышишь этот голос, скажешь мне. Обещаешь? Я не смогу жить, если с тобой что-то случится.
Он смотрел ей в глаза.
— Дур-рак. Сначала сведи бородавки, — сонно пробормотал попугай.
Отец сидел у окна своей башни — так называли мастерскую в конце сада у озера. Он смотрел вдаль. Его лицо, освещенное теплыми лучами закатного солнца, казалось просветленным и печальным.
— Пап.
Леля замерла на полпути к окну.
Отец встал с похожего на трон резного кресла и протянул ей навстречу руки. Выражение его лица оставалось тем же, нездешним.
— Я хочу поехать с тобой в аэропорт, — сказала Леля и, сделав два шага, обхватив отца обеими руками, прижалась щекой к его пахнущей скипидаром майке. Потом подняла голову и, наморщив нос, посмотрела отцу в глаза. Они были глубокими и темными. От них исходила магнетическая сила.
— Малыш, завтра обещают жару.
— Обожаю жару. Может, не в жаре дело? Только честно, пап.
Отец взял ее за плечи и слегка отстранил от себя. Леле показалось, он сделал это неохотно.
— Ты ревнуешь к Миле.
— Вовсе нет. Пускай она тоже едет с нами.
— Малыш, скорее всего я поеду один. Ксюша сказала, у них тьма вещей.
— Только не криви душой с самим собой, пап.
Она снова прижалась к его груди и услышала гулкие удары его сердца.
— Не буду. Я хотел бы выехать пораньше. Ты любишь поспать.
— Во сколько, например?
— Часиков в девять. Хочу заехать в книжный магазин.
— Нормально.
— Мила не поедет. Она…
Отец попытался подавить в себе вздох.
— Пап?
Леля закрыла глаза и потерлась щекой о его грудь. Это была их тайная ласка, о которой никто не знал. Ее прелесть они открыли, когда Леле было три с половиной года.
— Она боится нам помешать. Мила всю жизнь боится стать преградой между мной и моими детьми. Ее преследует чувство вины. Будто она виновата в том, что Тася умерла.
Леля нащупала сквозь майку упругий сосок и дотронулась до него кончиком языка.
— Пап?
— Да, малыш?
— У вас давно с ней роман?
Он ответил не сразу.
— Я познакомился с Милой через полгода после того, как ваша мама сделала это. Я тогда здорово пил. Мила помогла мне снова стать человеком.
— Петуня говорит, он видит во сне…
Леля прикусила язык.
— И что говорит этот будущий Казанова?
— Что он видит во сне меня.
— Будь осторожна, малыш.
— Ты думаешь?
— Этот мальчишка привык добиваться того, что хочет.
— Но я ведь тоже.
Ей захотелось переменить тему.
— Пап?
— Да, малыш?
— А кто из нас больше похож на маму? Ксюша или я?
— Ты. Хотя и Ксения очень похожа. Но от твоей кожи даже пахнет так же, как от маминой.
— Мама была худей меня. Вообще мне кажется, она была очень хрупкой. Ксюшка худая, но вовсе не хрупкая.
— Да, мама была хрупкой и очень ранимой.
Он вздохнул и прижал к себе голову Лели. Они простояли так несколько секунд.
— Пойду искупаюсь, — сказала Леля, высвобождаясь.
Она чувствовала, как по ее спине сбегают ручейки пота.
Под колесами «шестерки» убаюкивающе уныло шуршал асфальт. В этот довольно ранний час уже вовсю палило солнце, и Леля ощущала, как пылает ее лицо. Она здорово не выспалась — читала почти до трех, потом еще долго не могла заснуть. Ее разбудил Петя, швырнув в открытое окно мокрые от росы циннии. Цветы пахли свежо, и Леля начала чихать. Мила выгладила сарафан, уговорила надеть босоножки. Леля опустила глаза и посмотрела на свои непривычно аккуратно обутые ноги. Последнее время она шлепала в соломенных панталетах, которые Ксюша привезла из Египта. Леля вздохнула. В свои двадцать три года Ксюша успела объездить полмира, а она еще нигде не была.
— Малыш?
Она скосила глаза и посмотрела на красивый профиль отца на фоне лимонно-желтых полей.
— Да, пап?
— Какую пластинку прокручиваешь?
— Так, попурри на жизненные темы.
— Тебе пора влюбиться.
— В кого? — серьезно спросила она.
— Это не имеет никакого значения. Семнадцать лет без любви похожи на пустыню Гоби под полуденным солнцем.
— Ты стал романтиком, пап.
— Я был им всю жизнь. Именно за это меня и любят женщины.
— Я думала, они любят тебя еще и за твой талант.
Отец смущенно улыбнулся и тряхнул роскошно седеющей шевелюрой.
— Я пишу картины только потому, что больше ничего не умею делать. Собственно говоря, я боюсь настоящей работы, усилий, разочарований от того, что сделал что-то не так, как задумал. Мое творчество никогда меня не разочаровывает. Я всегда доволен тем, что сделал. И знаешь почему?
— Почему? — в тон ему спросила Леля.
— Мне за это неплохо платят. Когда я был бедным, непризнанным художником, голодным, холодным и неприкаянным, меня вечно грыз червь сомнения: может, я что-то делаю не так? Почему моя семья недоедает, дети ходят почти в лохмотьях, у жены нет ни одной золотой побрякушки?
— Ты и тогда неплохо смотрелся, пап. Помню, ты был неотразим в своем гэдээровском пиджаке с протертыми локтями, когда послал к одной матери ту толстую цековскую бабищу. После этого эпизода тебя зауважали даже твои враги. Уж не говоря о женщинах.
— Я любил по-настоящему только твою мать.
Лицо отца сделалось сосредоточенно серьезным.
— Но я помню, как ты был влюблен в ту актрисулю из вахтанговского театра, которая пела под гитару цыганские романсы. Я была тогда совсем маленькая, но хорошо все запомнила.
Отец вздохнул.
— Малыш, поговорим с тобой на эту тему как-нибудь в другой раз, ладно? Когда над пустыней Гоби прогремит гром и прольется веселый звонкий дождик. Договорились?
Она молча смотрела впереди себя. Шоссе стало шире и оживленней. Они подъезжали к Тамбову.
— Тебе нравится Борис? — вдруг спросил отец.
— Я его почти не знаю. Со сцены он смотрится неплохо.
— Мне по душе твоя рассудительность, малыш. Она заставляет верить в то, что наш мир не хрустальная ваза, которая может рассыпаться на мелкие осколки от одного неловкого движения неуравновешенного болвана.
— Хрусталь — это так старомодно…
— Ты права, малыш.
— Я никогда не смогла бы влюбиться в человека, увлеченного другой женщиной. Тем более моей сестрой. Так что не надо меня ревновать.
— Ах ты, моя умница. — Отец на короткое мгновение положил голову ей на плечо, и она ощутила легкое возбуждение от прикосновения его шелковистых волос. В отце было что-то такое, чего не было ни в одном существе мужского пола, с которыми Леле доводилось встречаться. Она не знала этому названия. Просто ее влекло к отцу. Порой это пугало их обоих.
На Ксюше были широкие белые штаны из «мокрого шелка» и черный хлопковый свитер ажурной вязки. В черных джинсах и легком красном пиджаке без подкладки Борис смотрелся стройней и выше ростом. Леля не видела его месяца три. Ей показалось, будто перед ней совсем другой человек.
— Елочка, ты стала такой раскидистой и большой! — Ксюша тискала сестру в своих сильных руках. Ей одной разрешалось называть Лелю Елкой. Для всех остальных она бесповоротно выросла из этого детского прозвища.
— Ты превратилась в настоящую примадонну. — Борис изобразил восхищение на своем сытом лице. — Наконец мы с тобой породнились. — Он громко поцеловал Лелю в щеку, а потом в шею. — Я кое-что привез тебе из Барселоны. И, кажется, не ошибся размером. — Он вытер платком взмокший лоб и грудь. — В самолете было так душно, хоть стюардесса и посадила нас на места, предназначенные для важных шишек. Оказывается, эта деваха была на моем последнем концерте в Доме ученых.
— Она сказала, что видела твою афишу, — уточнила Ксюша.
— Какая разница? — Борис провел пятерней по своим светло-русым ухоженным волосам. Он делал точно так же на сцене. Леля заметила, что женщинам очень нравился этот его хорошо продуманный и отрепетированный жест, в котором было столько наигранной небрежности.
Пока они ожидали багаж в душном полутемном здании аэропорта, Борис успел похвалиться, как хорошо его принимали в Барселоне, где он спел в концерте с испанской знаменитостью, приглашением в Шотландию. Леле казалось, будто он рассказывает это только для нее, хоть она и понимала, что это тоже продумано, как и тот небрежный жест, рассчитанный сугубо на публику. Артист и в жизни должен оставаться артистом. Это импонировало ее, Лели, врожденному чувству красоты. Это же делало окружающий мир скучным и банальным.
Когда они садились в машину, отец, улучив момент, шепнул Леле на ухо:
— Паяц не умеет взглянуть на себя со стороны.
— Напротив, ему это прекрасно удается, — возразила она тоже шепотом.
Когда они въезжали в ворота усадьбы, Леля заметила легкое шевеление в кустах жасмина справа. Она поняла, что это Петя, который, очевидно, провел в своей засаде не один час — по пути они заехали в ресторан, где Борис угостил всех обедом. Она едва заметно кивнула Пете и подмигнула. Тут же откуда-то с вышины раздался Ромкин голос:
— Привет дур-ракам. Дур-раки всего мирра, объединяйтесь!
— Какая же ты счастливая, Елочка, что провела здесь все лето. — Ксюша обняла ее за шею, дыша прохладной свежестью «Иссимиаки» и легкой грустью дорожной пыли. — Здесь совсем как в тургеневской усадьбе.
— Он смотрел на тебя взглядом пошлого киношного самца. — Петя облокотился о подоконник раскрытого окна, уперевшись подбородком в сложенные домиком ладони. — Мне так хотелось врезать ему по сопатке.
— Детям вредно пить шампанское. — Леля уже лежала в постели, натянув до подбородка простыню. — Кстати, шампанское купил Борис.
— В нем нет ничего натурального. Он напоминает мне избитый шлягер, который все повторяют только потому, что он навяз в зубах. Помнишь песенку из «Кавказской пленницы»?
— Я не смотрю советские фильмы, а уж тем более бабушкиных времен.
— Ну и зря. Это очень даже полезно. Вроде прививки от всех пошлостей жизни.
— Может, вызовешь его на дуэль?
— Я бы очень хотел это сделать. — Петя, ухватившись за край подоконника, быстро перемахнул в комнату. — Но некоторые люди, как ты знаешь, не имеют понятия о чести и прочих составляющих нормальной человеческой жизни. Можно я посижу в кресле? — Не дожидаясь ответа, он плюхнулся в плетеное кресло возле туалетного столика. — Это паяц подарил тебе духи?
— Во-первых, паяц подарил мне ярко-голубые бикини, которые мне очень идут, во-вторых, это не духи, а туалетная вода. Даже Ромке известно, что духи не наливают в такие большие пузырьки.
— Воняет бельем проституток. — Петя вертел в своих больших руках пузырек с «Эскейп», который он неуклюже поставил на место, зацепив при этом баночку с кремом. — Духи делают для того, чтобы возбудить сексуальную активность. Но это искусственное возбуждение. Я ненавижу все ненатуральное.
— А я не люблю зануд.
Леля демонстративно повернулась на бок, спиной к Пете.
— У тебя такой волнующий изгиб плеча. И вообще все линии мягкие и задумчивые, как акварель. Можно потрогать?
— Сперва сведи бородавки. — Леля сказала это беззлобно, но тут же поняла, что Петя обиделся. — Прости. — Она снова перевернулась на спину и протянула ему руку. — Если хочешь, могу попозировать.
— Я только сбегаю за бумагой и углем. Я мигом.

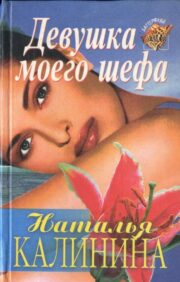
"Кто-то смеется" отзывы
Отзывы читателей о книге "Кто-то смеется". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Кто-то смеется" друзьям в соцсетях.