То, что происходило внутри меня, что зрело, совсем недавно радуя и умиляя своей непостижимой тайной, теперь жгло нутро, и хотелось избавиться поскорее от этой малой частички меня, так беспощадно подчинившей себе мою волю и мои чувства.
Я опускалась по серой, мраморной лестнице и знала, что там меня ждет «страшный суд». Самый, быть может, страшный, какой только мыслимо вообразить.
На узкой лакированной скамейке оранжевого цвета, под массивной, будто бронированной, дверью, словно воробей на жердочке, примостилась худенькая сероглазая, коротко остриженная девочка.
Если бы не ее короткая, по самое «не хочу», юбчонка да едва обозначенные выпуклости под трикотажной водолазкой, я бы решила — мальчик.
Вид у девочки был пришибленный, и странное впечатление производили неестественно расширенные зрачки. Руки ее подрагивали, и каждые две-три минуты все тельце вскидывалось, словно через него пропускали ток. В эти мгновения она всхлипывала, и на выдохе из ее губ вырывалось надломленное: «Мамочка-мамочка».
Мне захотелось заткнуть уши, закрыть глаза и бежать из этого мраморного подземелья. Я уже импульсивно напряглась, но взгляд этой бедолаги неожиданно упал на меня.
Она медленно и неуверенно, будто по намыленной поверхности, скользнула зрачками от кончиков моих туфель вверх, по белесым потертостям стареньких и поэтому безумно любимых джинсов, по грубой вязке шерстяного свитера. Вверх, по шее до подбородка, губ, переносицы…
Я чувствовала змееподобное скольжение невидящего взгляда. Стоп! Глаза ее дернулись, тело пронзила очередная конвульсия, и в тот момент, когда она хрипло выронила «мамочка», а я сжалась в предощущении чего-то неимоверно страшного, вдруг скрипнула дверь.
Девочка вздрогнула. Ее взгляд испуганно сорвался с моего лица и метнулся в сторону звука. Не знаю, какие темные силы ютились в глубине зрачков этого истерзанного зверька, но то, что наши взгляды не пересеклись, принесло мне облегчение.
— Проходите. — У двери стояла немолодая дама в синем колпаке-цилиндре. У нее было очень усталое и доброе лицо. — Ну, кто первый?
Я словно приросла к полу. Я понимала, что нельзя оттягивать момент операции. Нельзя стоять перед дверью, представлять себе, что там делают с этой девочкой, и холодеть от ужаса, прислушиваясь к каждому звуку оттуда. Но я приросла к полу, и ноги мои не подчинялись никаким внутренним силам.
— Давайте, Аннушка. Я много повидала в жизни, и, поверьте мне, это не самое страшное, что в ней случается. Давайте, Аннушка. — Женщина заботливо обняла девочку за худенькие плечики и повела в операционную. «Абортарий» — гласила выцветшая табличка.
Дверь скрипнула еще раз, и пространство комнаты, озаренное голубоватым огнем люминесцентной лампы, на секунду обнажило краешек стола, груду блестящих инструментов за стеклом шкафчика и чьи-то руки в белых латексных перчатках, затем дверь захлопнулась, поглотив тоненькую дрожащую фигурку.
Я посмотрела на Кирилла. Он нервно и нетерпеливо расхаживал по коридору. Хрустел суставами пальцев, вытягивал их с такой силой, будто пытался выдернуть из кисти. Изнуренное страданием лицо с ввалившимися серыми щеками выдавало болезненное напряжение. Будто он боролся с каким-то внутренним врагом, и исход битвы был еще очень далек. Он то и дело коротко поглядывал в мою сторону, но как-то из-под бровей, не решаясь поднять на меня глаза.
Видимо, он хотел что-то сказать, но все не мог собраться с мыслями. Наконец он тряхнул головой, решив для себя нечто очень важное, и подошел ко мне.
— Ир, — начал он, все еще преодолевая сомнения.
Но тут из комнаты донесся тихий плач, и почти сразу за едва уловимым звуком, раздался пронзительный душераздирающий вопль.
— Мамочка! Мамочка, миленькая! — Вопль перерос в утробный стон. — О-о-о-й! Ой, больно!
Кирилл побледнел, и, видимо, все мысли вылетели у него из головы. Он в изнеможении осел, зажал виски и простонал: «М-м-м-м-м». Потом поднял полные страха глаза на меня и спросил:
— Ну как же это? Как же?
Он спрашивал так, будто я была обязана разъяснить ему, отчего такая мука терзает его душу.
Из комнаты уже не рвалось наружу безумное: «Мамочка!» Оно сбитой птицей опало где-то в глубине заточения, лишь изредка вскидывалось на сломанных крыльях, и металось, и билось о глухие звуконепроницаемые стены.
Кирилл поднялся на неверных ногах, стиснул пальцы рук так, что они посинели, и снова приблизился ко мне.
— Нет! С тобой не так. Я договорился… Тебе сделают укол. Укол! Это не больно.
Но из-за двери снова в неземном смятении вырвалось и взвилось к потолку невыносимое:
— Больно, миленькие! Больно-о! Господи!
Потом все затихло, и лишь участливое женское воркование разливалось лучистым плеском. Сладостное, успокаивающее, оно не нарушало, а даже как будто подчеркивало тишину.
Сердце мое, готовое лопнуть от напряжения, бешено колотилось, проталкивая через себя горячие, клокочущие струи.
— Я буду с тобой, — испуганно проговорил Кирилл.
— Уйди.
— Не гони меня, я буду с тобой. Я буду держать твои руки. — И он попытался взять мои руки в свои потные и липкие ладони. Я отпрянула от него, как от прокаженного.
— Уходи! Я прошу тебя, не прикасайся ко мне!
— Ирочка, поверь мне, я договорился! Я сейчас заплачу, и тебе сделают наркоз. Ты не бойся. Не бойся, — горячо зашептал он в мое ухо. — У этой… У этой девочки, наверное, нет денег, а я заплачу, и ты будешь спать. — Он торопливо шептал и пытался привлечь меня к себе.
Мне стало противно, мерзко, и я со всего размаху ударила его по лицу. Щека Кирилла мгновенно побагровела, он дернулся от меня и стукнулся затылком о стену. Мне было плохо. Мучительно выговаривая слова, словно они отрывались от гортани живыми кусками плоти, я только и могла, что произнести сдавленным хрипом:
— Ненавижу. Слышишь: ненавижу!
Дверь жалобно проскулила: «У-ю-ю-и-и». Она распахнулась на сей раз шире прежнего.
Из комнаты в облаке тошнотворного запаха крови и эфира, придерживаясь за локоть высокого, с гибким и тонким телом мужчины в белом халате, тихо постанывая, вышла маленькая мученица.
В своем унылом бессилии я смотрела на эту совсем еще юную девушку и вспоминала из опыта прошедшего года то, что запомнилось мне больше всего: свою любовь, свою веру, свою страсть, свое унижение.
«Интересно, — думала я, — что привело к этой двери Анечку? Неужели она успела постичь в той же мере и глубине, что и я, сладость первой любви и горечь предательства? А может, она стала жертвой насилия? За что в ее еще совсем короткую и безвинную жизнь ребенка, словно в глиняного петуха со щелью для монет, жестокий самодур Рок с безжалостной щедростью бросил черные семена страдания?»
Бережно, словно хрупкий стебелек, обернув девочку простынкой, дама помогла ей прилечь на скамейку.
— Давай, Анюта, ложись потихонечку… Вот так, аккуратненько… Ну… Умница…
Я забыла о себе и готова была заплакать над ее болью. Я смотрела на нее и видела жуткую перемену в ее лице. За эти недлинные минуты в абортарии она, и без того маленькая и худенькая, словно уменьшилась еще вдвое. На узком сиденье могла бы поместиться не одна Анечка. Пичужка, совсем цыпленок. Она лежала неподвижно, раскрытые ладони покоились на груди, и черты лица, напоминавшие клювик, пугали своей заостренностью.
От этого девочка казалась неживой, если б не ее тяжелое, но равномерное и глубокое дыхание без предыдущих судорог и всхлипов.
Взгляд ее уже не скользил испуганными зрачками, а прожигал потолок и уходил в мироздание, увлекая за собой обездвиженность помыслов и чувств…
Настал мой черед.
Кирилл торопливо отсчитывал купюры и, пряча глаза, совал их в карман врачу.
— Только вы уж, пожалуйста… Я от Игната… Знаете, да? Мне Игнат сказал, что с наркозом…
— Все как положено.
— Вы уж, пожалуйста…
— Не сомневайтесь, все как положено. Сколько там?
— Как договаривались, полтинничек.
Я затаила дыхание, готовая окунуться в леденящую прорубь страха, но, удивительное дело, вдруг обнаружилось, что я ничего не чувствую. Ничего, кроме презрения к этому человеку, покупающему смерть своего не рожденного еще ребенка.
Немыслимый балахон, прикрывающий мою наготу, отнюдь не придавал мне элегантности. Байковые бахилы вобрали в свое мягкое лоно мои синюшные пятки, и, пока эскулап натягивал на свои длинные пальцы белый латекс, дама толстым резиновым шнуром опоясала мою руку чуть повыше локтя и, участливо заглянув в глаза, предложила:
— Поработай кулачком. Да что ж ты так боишься? Не бойся. Мы сильные. Мы все выдержим. Уж поверь мне. Вот так, умничка.
Венка на сгибе локтя вздулась, и тонкая игла одноразового шприца впилась в кожу.
Пьянящая волна исподволь заволокла мой мозг, и я с трудом различила приглушенный голос:
— Сейчас ты уснешь.
Мутная тень колпака качнулась где-то у меня в ногах, и дробным эхом вспорхнул отчего-то дребезжащий звук:
— Начали-чали-чали-чали… Вера-ера-ера… Расширитель-итель-итель…
Я провалилась в сон. Правда, то, что со мной происходило, сном назвать можно было лишь с большой натяжкой. Голова наполнилась звоном, свистом, хрустом. Меня понесло по жуткой спирали. Казалось, тело мое разрывает на части страшная сила. Оно рассыпалось на мельчайшие составные и мятущимся сгустком космической пыли неслось в бездну. Звук с каждым витком все более утончался, и вот он достиг предельной высоты. Барабанные перепонки разрывались, и было во всем происходящем одно осознание: это конец. Бесноватые языки холодного пламени слепили меня, передо мной возникали и исчезали звериные сатанинские рожи. Безумие и бред! И если я могла в тот момент мыслить, то, вероятно, помыслы мои стремились к смерти. Только смерть могла успокоить и утешить.
А может, это и есть смерть?
Это и есть смерть!
Только такую смерть я и заслужила. И нет выхода из мучительного ада, когда не физическая боль, а боль иного порядка терзает душу.
Нам ли знать, что происходит с отлетевшими душами?
Сознание возвращалось медленно, подобно фотовспышке выхватывая из тьмы фрагменты реальности. И, как фотокадры, запечатлевались они на пленке памяти.
Если полистать этот своеобразный альбом в хронологическом порядке, то первым осмысленным образом после пробуждения была огромная черная птица, сидящая на ржавой крышке мусорного бака. Меня вели мимо этого бака к красному «жигуленку» Кирилла.
Видимо, я каким-то образом шла на собственных ногах, потому что птица была как раз напротив меня и смотрела мне в лицо.
«Что это?» — не сразу сообразила я, зажмурившись от слепящего света.
И тут же, в ответ на мой мысленный вопрос, раздалось почти мистическое, громоподобное:
— Кар-ра! — И зачастило, и разошлось кругами под серым сводом остывающих небес: — Кара, кара, кара.
Я снова провалилась в липкое беспамятство, оглашаемое неотвязным рефреном.
К тому времени, когда я открыла глаза во второй раз, несомненно, прошла вечность. Моему удивлению не было границ, я увидела все тот же интерьер Валериной комнаты.
Коричневый мазок подсохшей крови на дверном косяке, спелые блики крупных яблок на блюде, обои с нежной прозеленью в мелкий цветочек… Приглушенным фоном звучали до боли знакомые голоса:
— А… Пустяк. Вот, помнится, егерем был, пули из задницы выковыривал. Подумаешь, царапина на плече. Селезнева помнишь? Вот он соврать не даст.
— Да… Фэйс у него в стиле лоскутной техники… — Кирилл с шумом втянул воздух.
— Урки развлекались. В горах прятались, а мы их вычислили. Да ошиблись маленько. Информация о троих была, мы троих и засекли. Стволы достали — и к ним. Нас двое, их трое. По уму если, то мы в выигрыше. Эффект неожиданности.
— Да знаю я. Про четвертого Селя мне сто раз трепал.
— Трепал, трепал. А мог бы и не трепать, когда б на том свете оказался. Тот, четвертый, по нужде отчалил, а как возвращаться, так на Селю и вышел. Да со спины. Завалил и давай перышком кромсать.
— Смотри-ка, все лицо в шрамах. Урод уродом. А до сих пор в лесу, не бежит оттуда. И жена с ним, и Витюха вон по отцовским стопам…
— В лесу хорошо.
— Да уж, — неопределенно хмыкнул Кирилл.
Про Селезнева я знала. И, если б не Валера, неизвестно, была бы необходимость поддерживать в чистоте селезневскую плоть. А именно за этим Селезнев со всей своей семьей не раз наведывался к Кириллу в гости. И когда он выходил из ванны, разгоряченный, распаренный, левая щека его заливалась юношеским румянцем, и он казался голубоглазым красавцем. Я не могла оторвать глаз от его изумительного профиля. Но правая сторона была воплощением франкенштейновского ужаса. Рубцы, обрамляющие клочки сшитой кожи, выделялись то интенсивной фиолетовостью, то прозрачной голубизной. И всякий раз, когда жена нежно чмокала его в искромсанную щеку, у меня под лопатками скользил противный холодок. Вот и сейчас я вспомнила лицо Селезнева и содрогнулась.

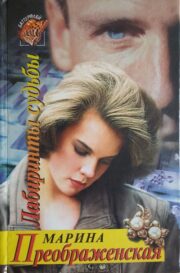
"Лабиринты судьбы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Лабиринты судьбы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Лабиринты судьбы" друзьям в соцсетях.