— Наверное, вы правы, — разочарованно ответил мужчина и поспешил распрощаться со мной. — Ну, до свидания… Может, когда-нибудь судьба еще столкнет нас.
— Может, — пожала я плечами и торопливо пошла к турникету.
Метро ошеломило меня. Я встала как вкопанная, с трудом представляя себе, что нужно делать дальше. Как поступить, что предпринять, куда поехать?
То, что мне было необходимо отыскать моего брата, немного упорядочивало хаос в моей голове. Главное — выявить цель.
Я успокоилась, нашла глазами карту метрополитена, висящую на стене и запомнившуюся мне еще с тех доисторических времен моего детства, когда мы с мамой простаивали у этой карты, отыскивая нужные нам станции и пытаясь разобраться в паутине разноцветных пересечений. Я углубилась в изучение расположения станций.
Но как я ни старалась, как ни вглядывалась в замысловатые названия, я все равно не могла отыскать нужную мне «Ждановскую». Когда в глазах зарябило и я поняла, что не в состоянии справиться с этой задачей без посторонней помощи, я в бессилии оглядела окружающих.
— «Ждановская»? — переспросил дежурный милиционер. — А такой станции нет.
— Как нет? — оторопело уставилась я в смеющиеся глаза молодого стража порядка.
— А вот нет, и все. — Ему явно было скучно, и от нечего делать он решил поразвлечься.
Я обреченно посмотрела на карту еще раз.
— Нет, — вздохнула я, и слезы отчаяния готовы были навернуться на мои глаза.
А как все было просто. Найти «Ждановскую», — так мне объяснял Леша. Там будем автостанция. Узнать, во сколько отправляется автобус до Бронниц. А оттуда рукой подать до самого Денежникова.
Неужели он ошибся?
Я с мольбой взглянула на милиционера.
— Как же мне быть?
— Да очень просто! — рассмеялся милиционер. — Пойдем со мной, расскажу.
— Куда? — Я удивленно подняла глаза.
— А тут есть такая хитрая комнатка. — Он многозначительно потер ладони.
— Дурак! — прервала я его болтовню.
— Во-во! Правильно! Это он и есть! — Из-за его плеча выглянул такой же молодой и такой же веселый с мягкой и розовой кожей лица, которой вряд ли касалась бритва, в новенькой форме и почему-то большой, не по размеру, фуражке сержантик.
— Ребята, вам весело, а я погибаю.
— Это серьезно. — Сержантик положил руку на плечо своему другу и деловито спросил: — Не дадим погибнуть?
— Не дадим, — отозвался первый и дурашливо толкнул розовощекого.
Фуражка сержантика соскользнула с головы и наехала ему на нос.
Мы засмеялись. На глазах у меня от смеха выступили слезы, навернувшиеся минуту назад. Я полезла в карман за носовым платком, и, когда вынула его, на пол, прямо под ноги сержантику, гулко ударившись о плиты пола, упал филин.
— Ух ты! — воскликнул сержантик, поправляя фуражку.
Сердце мое екнуло и провалилось в пятки. Я мгновенно наклонилась и подняла свою драгоценность.
— Что это? — спросил сержантик, и щеки его залило алым румянцем. «От смущения или от подозрительности?» — мелькнуло у меня в голове.
— Так. Безделушка. Бабушкин подарок, — сочиняла я на ходу, а сама лихорадочно соображала, что будет, если меня поведут в отделение. Стоит ли врать или следует, не мешкая, прямо сейчас, чистосердечно во всем признаться и избавиться от этого и без того причинившего мне столько неприятных хлопот и переживаний приобретения.
— Покажи, — попросил сержантик и протянул руку.
Я отдала ему филина и дрожащим голосом начала:
— Это… Это…
— Талисман? — подсказал тот, что повыше, который был первым моим собеседником.
Вдруг у входа метро возник какой-то шум, возмущенно заголосил бабий визгливый голос, ему ответил другой и еще несколько голосов с характерным венгерским акцентом. Мы оглянулись и увидели небольшую толпу. Цветастые юбки цыганок, широкие, яркие платки на плечах, дети за спинами у чернявых молодок, как-то по особому перевязанные и по-обезьяньи прилепленные при помощи все тех же платков. Толпа стремительно увеличивалась, и становилось ясно, что там что-то произошло.
Сержантик, потеряв всякий интерес ко мне, сунул мне в руку злополучного филина и на ходу бросив:
— Не потеряй, разиня, — побежал в сторону цыганьего переполоха.
— «Ждановская» — это теперь «Выхино», — добавил его товарищ и поспешил на подмогу.
Я бросилась к поезду и вбежала в вагон перед самым закрытием дверей.
Как быстро мчится поезд! Еще быстрее летит время. Калейдоскопом меняются картинки моей бестолковой, сумбурной судьбы.
Чуть больше дня прошло с того времени, как я покинула теперь уже далекий город моего безоблачного детства.
Кто бы мог сказать мне, что время, как ветер, оторвет листок моей жизни и забросит его в такие дали.
Ну когда же, когда он станет сладким, этот запретный плод — горький плод любви?
Ки-ра, Ки-ра, Ки-ра… Это имя отстукивало колесами поезда метрополитена, и я почти автопилотом, подчиняясь шестому чувству добралась до станции «Выхино».
Мимолетная встреча с Алексеем стала забываться, его глубокие глаза растворились в холодной синеве осеннего московского неба, его голос заглушили другие, менее красивые, но более настойчивые и громкие голоса мегаполиса. А Кира — он засел глубоко, и пройдут годы, прежде чем я смогу избавиться от этой боли.
«Ки-рю-ша, Ки-рю-ша»… — шуршали шины автобуса.
Я ехала к брату, и мысли мои были наполнены единственным — воспоминанием о человеке, который подарил мне столько счастья. Чем дальше я удалялась от него, тем четче и ясней понимала, что это был единственный выход. Мне просто необходимо было уехать, чтоб вдалеке разобраться во всем и либо забыть его и выжить, либо понять, что без него существование мое бессмысленно. Перед глазами то и дело возникало бледное острое личико распростертой на мокром асфальте Анечки.
Прошел час или чуть больше того… А впрочем, так ли важно, сколько времени ушло у меня на дорогу, каким образом я перемещалась по маршруту «Москва — Денежниково» и какие неудобства пришлось мне претерпеть в переполненном дачниками автобусе? Дорога как дорога, пассажиры такие же, как и в любой точке нашей по тем временам необъятной родины: среди толстых теток и пьяненьких мужиков, зареванных детей и ворчливых старух, среди корзин, кошелок, лопат, граблей, веников и прочей весьма необходимой в хозяйстве утвари я пропускала мимо ушей разговоры о политике, о вечно растущих ценах и грядущем голоде, о сенсационных разоблачениях коррумпированного и зажравшегося на народных харчах правительства, о развале нашей самой сильной когда-то армии — и думала о Кирилле.
Я смотрела в окно на беспрестанно меняющуюся панораму пейзажа, а видела скользящую тяжелую слезу на вмиг постаревшей щеке Кирилла.
Откуда эта рабская зависимость? Эта извращенная, мазохистская привязанность истязаемого к истязателю?
«Где твоя гордость?» — горько спрашивала у меня мать.
«А твоя?» — хотелось мне отбить рикошетом. И я, быть может, была бы права, но в самом деле, где моя эта самая гордость? Ведь можно любить, не теряя достоинства. Можно быть сильной и независимой. Не сама ли я в отношениях с Кирой обрекла себя на мучения?
Болело сердце, не хватало воздуха, и глаза, не цепляясь за что-либо конкретное, скользили по остывающим в пространстве перелескам, чередующимся с жилыми районами ближнего Подмосковья.
13
Найти «дурку» в поселке было делом нескольких минут, если учесть, что, кроме этой больницы, там и была-то всего пара-тройка административных зданий: школа, детсад, почта и, пожалуй, все. Нет, еще продуктовый. Вот как раз за ним, метрах в двухстах, и находился «Пансионат для престарелых и умалишенных».
— Андрей? Это Симоненко, что ли? А он дома. — Пожилая вахтерша посмотрела на меня подозрительно. — А вы ему кто?
— Сестра. Троюродная.
— Что-то не слышали мы о такой.
— Мы с ним уже давно не виделись. А вы что, все обо всех слышали?
— Почти все. Так вы идите к нему домой. Они два на два дежурят: двое суток работают, двое отдыхают, — пояснила вахтерша.
— Понимаете ли, я потеряла его адрес…
— Вон его дом. — Вахтерша взглянула на меня еще подозрительней.
Я посмотрела в указанном направлении. Единственная в поселке пятиэтажка высилась над утлыми хибарками. В ней выделили квартиры обслуживающему персоналу больницы.
Рядом с домом, почти за забором лечебного заведения, громоздились разбросанные в беспорядке фанерные сарайчики и гаражи. Там блеяли овцы, в лужах копошились гуси и утки, из-за проволочной сетки ограды раздавалось кудахтанье, пение петухов, хрюканье и мычание. Жизнь кипела.
Чуть поодаль зеленел молодой ельник.
Воздух после угарной Москвы был свежим, и у меня от обилия кислорода, от усталости и, вероятно, от голода слегка закружилась голова.
— Да вы идите, он дома, — видимо, приняв мое замешательство за нерешительность, подбодрила меня вахтерша и стала подробно описывать, как его найти: — В первом подъезде подниметесь на четвертый этаж. Там будет дверь, обитая черным дерматином. От лестницы сразу налево. Гвоздики такие с блестящими шляпками, звездочкой вбиты. А посередине глазочек…
— Вы бы мне просто номер квартиры?
— Я и говорю. Черный дерматин, а на полу резиновый коврик с пупырышками, чтоб ноги, значит…
Я нетерпеливо поблагодарила и, не дослушав столь подробного описания входной двери, торопливо направилась к дому.
Как он меня встретит? Озноб волнения заставил меня передернуться. Сердце учащенно забилось.
Андрюху я видела давно. Последний раз миллион лет назад. Воспоминание о большой и дружной семье двоюродной сестры моей матери вселило в меня радостное возбуждение.
О! Это было одно из самых восхитительных воспоминаний моего детства. Я безумно мечтала иметь братика или сестренку и все время просила маму купить мне ну хоть кого-нибудь. Мой старший брат не в счет. Мне почему-то казалось, что, когда у меня будет младшенький, жизнь моя наполнится новым, высоким смыслом. Но мама всегда смущенно отнекивалась или находила различные отговорки, типа «у нас нет денег на одежду, где же их взять, чтоб купить ребеночка», и я с этим почти согласилась. Только попав в эту совсем небогатую, но веселую и дружную семью, я поняла, что дело, вероятней всего, не в деньгах.
Я по молодости лет плохо запомнила точное количество моих родственников, но троих из всех кузенов и кузин моя избирательная память запечатлела яркими и незабываемыми красками.
Прежде всего — это Ленчик. Маленький, светлоглазый и светловолосый мальчонка, был похож на пшеничный росток. Он так доверчиво прижимался к моей руке, так пристально смотрел в глаза и столько теплоты и добра было в нем, что порой мне становилось не по себе. Уже тогда, в свои шесть лет, он был обречен и знал об этом. «Ира, тебе скажут, что я умру. Только ты не верь! Это сейчас у меня мало крови, но я буду много есть, вырасту большим и стану врачом. Я вылечу себя! Ты не верь, я не умру. Я никогда не умру».
Он просыпался засветло и уходил на луг. Там он собирал мелкий, но очень сочный и сладкий дикий горошек в свою клетчатую кепчонку и садился под дверью сарайчика, в котором мы с мамой спали на полатях под марлевым пологом, защищающим нас от настырных комаров. Он дожидался моего пробуждения. Глаза его светились от счастья и удовольствия, когда я, с благодарностью поглядывая в его сторону, уминала это благоухающее подношение.
Ленчик моложе меня на три года. Он страшно любил эту жизнь и наслаждался каждым ее мгновением.
«А хочешь, я покажу тебе заветное место?»
«Покажи».
«Обещай, что ты не будешь думать там о плохом».
«Обещаю».
Мы садились в лодку и уплывали по очень глубокой и немыслимо прозрачной реке. Я глядела на плоские камешки, на яркие водоросли и не догадывалась, насколько глубока эта речка. Однажды я потянулась за юркнувшей у самого борта лодки рыбой и кувыркнулась в воду. Каково же было мое удивление, когда я чуть не захлебнулась, не достав ногами дна.
Ленчик ловко подал мне руку и помог влезть в лодку.
«Здесь ночью поют русалки, а днем их не видно. Они тащут детей за ноги, и нам не разрешают купаться в этой реке», — доверительно рассказывал он мне, помогая стащить прилипший к телу сарафан.
Я посмеивалась над ним и потом много раз безбоязненно плавала в речке, а по берегу бегала какая-то бабка и потешно всплескивала руками: «Утя! Ох ты, беда, утя!»
Но однажды я явственно ощутила, как кто-то тащит меня за ноги. Едва добравшись до берега и отдышавшись, я побежала домой и рассказала об этом Ленчику. Этой же ночью мы отправились к реке, и я увидела, как мерцают в воде русалочьи гибкие тела. А может, это была подлунная рябь волны? Но я слышала, как они поют, и помню это до сего дня.

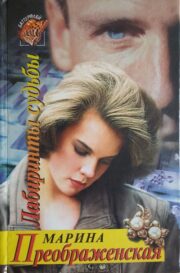
"Лабиринты судьбы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Лабиринты судьбы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Лабиринты судьбы" друзьям в соцсетях.