В комнату на минутку вбежала девочка лет шести, за ней приковылял карапуз трехлетнего возраста.
Девочка схватила со стола банан и с визгом помчалась прочь, а карапуз упал и, обиженно вздернув носик, неожиданно заплакал, первую секунду раздумывая, стоит ли это делать.
Он плакал и медленно поднимался с коленок, отряхивая брючки классической тройки. Блейзер с атласными лацканами превратил несмышленыша в прелестного кавалера. Этакого заправского франта. Но его слезы никак не гармонировали с подобным нарядом, и малыш, видимо почувствовав это несоответствие, стал расстегивать пуговки маленькими пухлыми пальчиками.
Пиджачок отлетел в сторону, и безутешный малыш, на которого так никто и не обратил внимания, остался в шелковой жилетке. В комнату вернулась девочка и, подхватив карапуза, понесла его из комнаты, что-то шепча ему на ухо. Тот разулыбался, вытер пальчиком бегущую по щеке слезинку и засучил ножками, изъявляя желание встать на пол и продолжить путь самостоятельно.
— Сергунюшка! — запоздало подошла к нему Софья Людвиговна. — Что ты тут делаешь? Здесь взрослые дяди и тети. Иди, маленький, иди. Наташенька, скажи Марии, что вам уже пора спать.
— Не хочу-у-у! — заверещал Сергуня, отбрыкиваясь уже от рук Софочки.
— Идемте, дети, — чинно произнесла Софья Людвиговна, и маленькая леди, сверкая роскошными оборочками нарядного платья, пошла за хозяйкой, совсем по-взрослому покачивая попкой.
Гости, немного уставшие от танцев, запыхавшиеся и раскрасневшиеся, вернулись на свои места за столом.
— «Ты цыганочку можешь, Василий Иванович?» — спрашивает Петька, — начал рассказывать анекдот один из мужчин. — «Могу». — «А лезгинку?» — «Могу». — «А польку?» — «Могу», — отвечает Василий Иванович. — «А мазурку?..» — «Ну, Петька, — задумался Василий Иванович, — могу, наверное, только я что-то не припомню, что это за национальность такая?»
Подвыпивший народ склоняло к сексуальной теме, и шуточки вскоре приобрели сальный характер.
Я почувствовала, что мне хочется спать, и спросила у Леши, скоро ли мы отсюда уедем.
— Поехали, — моментально согласился Леша, и мы направились к гардеробу.
19
Раздался звонок в дверь. Я, мельком взглянув на циферблат, отметила про себя второй час ночи и тихонечко, не включая свет, пошла к глазку.
Жить одной в квартире было непривычно и немного страшновато. Я старалась не засиживаться допоздна, не гулять по вечернему парку и, максимум к десяти, приняв ванну и попив чаю с терпким липовым медом, забиралась под одеяло, кожей ощущая его пушистую нежность.
В этой квартире все было пушистым: и коврики, и полотенца, и халаты, и вот даже одеяло. Пушистым и светлым.
Когда Леша впервые привел меня сюда, эта маленькая квартирка в районе Сокольников показалась мне сказочным уголком. Мне все не верилось, что это чудо может принадлежать мне. Я разворачивала бордовые корочки своего паспорта и любовно рассматривала штамп прописки.
Москва… Москва? Москва!
Вот, думалось, закрою глаза, постою с минуту, потом открою, и все встанет на свои места. Все будет по-прежнему. Ну не может фортуна преподнести мне такой потрясающий подарок. Словно во сне.
Потом ничего, привыкла. Люди быстро привыкают к хорошему.
Баба Зина, домработница, совмещала обязанности и прачки, и кухарки, и уборщицы. Она была всегда весела и приветлива, ее расторопность и неутомимость поражали меня, но я испытывала некоторую неловкость, глядя на то, как она моет окна, рискуя вывалиться из окна четвертого этажа, как чистит ковры и закладывает в стиральную машину постельное белье.
Однажды я попыталась помочь ей, но она так активно запротестовала, замахала руками и захлопала глазами, что я даже испугалась.
— Ох, лапочка, не нужно! Да я за такие деньги не то что это гнездышко, я бы весь дом вылизала и обстирала.
Она усердно протирала пыль, снимая с полок фарфоровых слоников, любовно оглаживая каждого и ставя на место.
— У меня когда-то были точь-в-точь такие же. Во времена моей молодости слоники были почти в каждой семье. А для меня они — особая память. — Она подняла глаза к небу, сладко вздохнув. — Мне их подарил мой Николушка.
— Муж?
— Нет, к сожалению… Но мог бы им стать. — Она опустилась на краешек дивана. — Если бы я не оказалась такой дурой. — Она еще раз вздохнула. — Знаешь, девочка, это после войны было. Жили мы небогато, но и не бедно. Мой отец был профессором в университете, а Николушка у него учился. Однажды он пришел к нам в дом, а мы как раз обедали. Картошечка с тушонкой, огурчики соленые, чай, сухарики. А он — студент. То-ощий, аки вобла. Но глаза — огонь! Я заглянула в них и вспыхнула… До сих пор тлею. Он тоже посмотрел на меня и задохнулся. То он с отцом так непринужденно разговаривал, так легко, а тут сбился, стал заикаться. Отец видит такое дело, иди, говорит, дочка, к себе, мы побеседуем, а потом я тебя позову, будем вместе обедать.
За обедом Николушка молчал и только краснел все больше. А потом не выдержал, сказал: спасибо, я сыт. Ушел, так и не съев почти ничего.
Я бы про него забыла, но на студенческом вечере он пригласил меня танцевать, да возьми и сразу же ляпни: выходи, мол, за меня замуж. Я бы — не против! Я даже — за! Но так, в лоб? А он еще и добавил: если не выйдешь, мне придется из Москвы уехать, а так, может, с тобой оставят. Я теперь понимаю, что он хотел сказать, а тогда подумала: ах ты, рвань деревенская. Прописка тебе нужна, Москва нужна, а не я. Вырвалась и убежала.
— А он вас догнал, — попыталась я предугадать развитие событий.
— В том-то и дело, что нет. Я за дверью встала, еле дышу. Ведь знаю же, что полюбила его… Нет… Не догнал. Уехал в деревню. Я замуж вышла, он приезжал ко мне, цветов привез корзину.
— Целую корзину! — повторила я.
— Да-да. Огромную корзину, сам этот сорт вывел, на ВДНХ выставлял и ездил в командировки. У меня сын родился, потом дочь. А я все его любила, все о нем вздыхала.
— И он к вам заходил, когда в Москве бывал? — скорее утвердительно, чем вопросительно, посмотрела я в ее блекло-голубые, цвета осеннего неба глаза.
— Нет. Даже не звонил. Отец с ним поддерживал отношения и рассказывал мне о нем. Я смотрела на этот проклятый черный телефон и ждала от него хоть коротенькой весточки.
— А он женился? — поинтересовалась я.
— Если бы… Он умер. Я… — Баба Зина всхлипнула. — Я не выдержала ожидания, с мужем развелась и написала ему письмо. Прощения просила, к себе звала, о любви своей рассказала. — Она промокнула припудренные щечки салфеткой. — Все ждала его, ждала… Думала, прилетит, примчится, розами завалит. А получила письмо от его матери. Умер, мол, похоронили, и фотография его в конверте, еще студенческих лет.
Я к его матери ездила. Все ей про себя рассказала, про то, как дурой была, что подумала про эту идиотскую прописку… Мы с ней плакали на могилке… Она мне этих слоников и подарила. На память, значит.
Я подошла поближе к полочке и взяла самого маленького из них.
— Этих? — спросила я, понизив голос, словно боясь неосторожной интонацией поранить душу бабы Зины.
— Нет, не этих. — Она еще раз промокнула салфеткой слезящиеся глаза. — Те разбились при переезде. Один остался, так и его внучка куда-то затеряла.
Мне хотелось отдать ей всех семерых, но я понимала, что таких, как у меня, может быть несметное множество, а такие, как у нее, были в единственном экземпляре.
Глаза бабы Зины вспыхнули, она лихо нажала на кнопочку дистанционки, включая музыкальный центр, из глубины которого тут же полилась музыка недавно появившейся в эфире и тут же ставшей популярной волны «Европа плюс».
Да и не была она бабой. Это Андроник так ее называл.
— Это тебе, баб Зин, за работу, а это — внученьке на орехи, — говорил он, выдавая деньги за неделю вперед.
— А почему на орехи? — спрашивала я.
— А если на чай, штанишки промочит, — смеялся Андроник-Ник, сверкая едва заметной золотой коронкой в глубине рта.
А так баба Зина была моложавой, худощавой и крепкой, с озорным блеском в обесцвеченных временем и слезами глазах. Ее визитной карточкой была хорошенькая кокетливая шляпка с дымчатой вуалью, по которой мушками разбегались бархатные вкрапления. Она старательно подводила губки и румянила уже изрядно подувядшую шероховатость щек. Носила туфли на высоком каблуке так грациозно, как не всякая молодая смогла бы это сделать.
— Но ведь это тяжело, — удивлялась я. — Мне кажется, что в вашем возрасте я не вылазила бы из домашних тапочек.
Она задорно подмигивала мне, забыв о своих возрастных проблемах, и весело отвечала:
— Сразу после уборки я отправляюсь в театр. Так вот, заметь, у тебя ножки от шеи начинаются и, наверное, даже в домашних тапочках ты будешь очаровательна. А у меня? Даже сказать стыдно! А так, глядишь, какой отставной сослепу и клюнет.
Иногда, закончив уборку, она подходила к моему бару и заглядывала внутрь, рассматривая разномастные этикетки с названиями напитков.
— Баб Зин, выбирайте любой, угощаю, — делала я барский жест.
— Спасибо, я ведь не пью. А посмотреть приятно.
Так вот… О чем это я? Ах, да! Отмстив про себя второй час ночи, я крадучись подошла к глазку.
Мало ли? Времена на дворе неспокойные. Едва дыша, я заглянула в оптический кругляш и обомлела.
Улыбающийся Леша держал чуть ли не у самого моего носа огромный торт, а на заднем плане, скорчив забавную рожицу и выставив над головой Леши два пальца, как бы изображая рожки, маячил Ник. Мне стало весело.
С тех пор как я поселилась в этой квартире, Леша и Ник стали моими регулярными гостями. Они патронировали мою «резиденцию», пополняя полки холодильника и нишу бара. Но так поздно они еще ни разу не приходили.
— Ребята, вы чего? — распахнула я дверь.
— Ой, сестренка, нам зажмуриться или сразу в кровать? — засмеялся Андроник.
И я мгновенно сообразила, что, открывая дверь и включая свет, совершенно забыла о своем внешнем виде.
Трусики и ажурная шелковая маечка, может, и годились для зарубежного каталога, демонстрирующего нижнее женское белье, но для принятия гостей — вряд ли.
Дверь с грохотом, будто лопнувшая пружина, захлопнулась, и с той стороны раздался короткий возглас Ника:
— Вот дурак! Лучше б молчал!
— Сейчас, ребята, сейчас! — Я суетливо натягивала свои неизменные джинсы и все никак не могла попасть ногой в штанину. Но вдруг вспомнила, что Леша подарил мне роскошный вечерний пеньюар.
Запихнув джинсы в шкаф, я нашла вешалку с пеньюаром, освободила его от пакета, висящего поверх розовой ткани, и быстренько надела на себя.
— Вот так-то лучше, — решила я, бегло оглядев себя в зеркало и поправив растрепавшуюся челку.
Я снова открыла дверь.
— А я уже решил, что нас не впустят, — разулыбался Ник. — Не-ет, Воля, первый раз было гораздо лучше. — Он посмотрел на Лешу, словно ища подтверждения своим словам.
— И так что надо! — ответил Леша, входя в прихожую и украдкой пытаясь заглянуть за портьеры, отделяющие альков от комнаты.
Я усмехнулась.
— Да нет там никого.
— Уже вижу… — Он разулся и еще раз одобрительно посмотрел на меня. — Только этикеточку бы неплохо сорвать. — Или ты его продавать будешь?
Мне стало неудобно. Я вдруг решила, что Леша и впрямь подумает, будто я до сих пор не надевала его подарок исключительно потому, что предполагала продать.
На самом-то деле я просто не понимала, как можно носить подобную роскошь в полном одиночестве. Мне неимоверно было жаль изнашивать такую красивую вещь так бездарно: никто и не увидит, насколько я в ней хороша.
Джинсы — это да! Я с удовольствием вместо своих затрепок носила фирменный «Левис» — удобно, практично и долговечно. В любое время суток, в любой обстановке — и в ПТУ, куда отправил меня Леша доучиваться, и на практике, где я под руководством его личного друга осваивала профессию, и в кино, которое мы все-таки изредка посещали с Антоном, джинсы были незаменимой частью моего гардероба. Беготня по московским метро была бы более утомительной на баб-зиновских шпильках и в вечно мнущихся юбках.
Я вспомнила мать, которая самую старую и изношенную вещь непременно латала, стирала и прятала на специально выделенную полочку в гардеробе, приговаривая при этом: «Ничего, дома сносится. Выкидывать — раскидаешься!»
Так и снашивала дома то, что на людях уже не наденешь, и меня учила тому же.
Это потом уже, не без помощи Леши, я поняла, что все красивое: одежда, обстановка, посуда, вид из окна и многое-многое другое — существует на самом деле не для людей, а для себя.

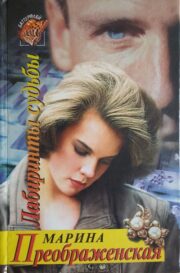
"Лабиринты судьбы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Лабиринты судьбы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Лабиринты судьбы" друзьям в соцсетях.