В ответ на упреки я вскипала раздражением, накаляя и без того взрывоопасную атмосферу, или замыкалась вовсе.
— Что, вытурил? Или жена в ночную смену работает? — всегда цинично вопрошала мать. — Или, может, остохренела ты ему за ночь? Иди, мол, попользовался, и хватит.
Леденящее кровь презрение разрывало мою душу. Оправдать себя, объяснить все — было невозможно. У меня возникало ощущение, что я, только что млевшая в райском блаженстве, вдруг неожиданно срываюсь с высоты и стремительно лечу в черную омерзительную бездну. Я видела это падение с такой сверхъестественной четкостью, что невольный ужас затмевал мой разум.
Мне становилось не по себе, и я, напялив жестокую маску бесчувственной хамки, по-идиотски смеялась в ответном желании досадить матери, причинить ей такую же страшную боль, какую испытывала сама.
Мать опасалась за мою психику и делала вкрадчивые попытки объясниться, вызывая во мне бесконечное ощущение фальши.
Мы истерично метались по квартире: я от матери, она за мной. Она что-то спрашивала, я что-то отвечала. Она дипломатично сулила покой в обмен на покаяние с моей стороны, я же не знала, в чем должна каяться, и со свойственным всем молодым людям эгоизмом предлагала матери не трепать себе понапрасну нервы, а спокойно ложиться спать. Отец ведь спит, и ничего, крыша не рушится…
— Но я волнуюсь! — восклицала она.
— А ты не волнуйся, — возражала я.
— Но с тобой может что-нибудь произойти, и я об этом даже не узнаю, — увещевала она, взывая к моему дочернему благоразумию.
— Если со мной что-нибудь произойдет, ты непременно об этом узнаешь, — успокаивала я ее, тяжело присаживаясь на диван.
— А если тебя убьют? — с горечью в голосе разводила она руками.
— Тогда ты не будешь страдать при виде меня, как страдаешь сейчас. Ты станешь носить на мою могилку хризантемы и спокойно ожидать старости. А я не буду выслушивать эти скандалы и отругиваться в ответ. Ты ведь даже жалеешь, что родила меня? — Я поднимала на нее усталый взгляд, видела, как она мучается, и находила в этом какую-то извращенную усладу.
Нам обеим было больно, но мы говорили на разных языках и в силу этого обстоятельства никак не могли понять друг друга.
Тот, самый первый, скандал, когда я, понурив голову, стояла перед разъяренной матерью, впервые сознавая нашу отчужденность, пророс во мне надвигающимся, злым недоверием, как сорняк прорастает в культурном поле и глушит, забивает его жестокой бездарной мощью…
Такая расстановка сил изматывала нас. Длиться до бесконечности это не могло, и однажды я безо всякой видимой причины, когда на дворе стоял безмятежный и тихий вечер, а в квартире царил полный покой, объявила как можно уверенней:
— Я ухожу.
— Ира, что, опять? — Мать выключила телевизор и подошла ко мне, пытаясь заглянуть в глаза. — Что с тобой происходит? Ну что? — Она затрясла руками. — Почему, Ира?
Я поднялась с кресла, обошла ее и выглянула в окно.
— Я не знаю, почему… Я не могу объяснить, почему! — внезапно крикнула я. — Не мо-гу! Тошно мне здесь! Тошно, понимаешь?
— Ира… — мать взяла меня за руку. — Подумай, а, Ир. Тебе некуда идти. Тебе нечего там делать! Он поиграет с тобой и бросит.
— Мам!
— Послушай меня, ты не знаешь себе цену. Да раскрой же глаза: старый, плешивый. А ты — молоденькая, симпатичная, все при тебе…
— Какой же старый, ма? И сорока нет. И не плешивый. Ну что за ерунду ты говоришь? А хоть бы и так! — вскинула я на нее взгляд. — Мне хорошо с ним.
— Хорошо… Что ты знаешь про хорошо? Что ты можешь знать про хорошо и плохо? — Она взяла со стола хрустальную вазочку, обтерла ее носовым платком и поставила на место. — Ира, ты еще не знаешь жизни и ничего не понимаешь… А я, — она как одержимая замотала головой. — Я прошла через это.
— Через что «через это»? Мама, я знаю, ты меня все еще воспринимаешь как ребенка. Но постарайся вдуматься в то, что я тебе говорю. Мне хорошо с ним! И ты не могла пройти через ЭТО. У тебя было свое «это». Понимаешь — свое. Мое «это» и твое «это» — не одно и то же.
— Тебе так только кажется! Они все одинаковы. И все презирают нас. Все! Им, кобелям, можно все!! У них что ни постель, то любовь, а твоя любовь для них знаешь что?
— Что?
— И ты еще спрашиваешь?! Блядство! Разврат! Твое чувство для них — тьфу. Им, когда свадьба, девичество подавай, непорочность. Чтоб простынку подстелить да родне показать.
Я обескураженно притихла, ошеломленная ее мировидением.
— А ты с отцом…
— Что я с отцом? — она агрессивно понизила голос.
— Ты с ним с самого начала жила так?
— Как? — Она оторопело смотрела на меня, не понимая, чего же я требую от нее, какого ответа. — Что ты имеешь в виду?
— Ничего… Мне показалось, что именно с ним у тебя родилось это… Понимание отношений…
— Может, и с ним… — как будто успокаиваясь, произнесла она. — Он ведь тоже презирает меня. Но мне не из чего было выбирать. А… — Она всплеснула руками. — Мы, знаешь, как со свекровью жили? С голоду дохли, я, как вол, пахала, руки отваливались. А свекровь сало гноила, на жиру крестики рисовала, чтоб я, не дай Бог, не полакомилась. — Она расплакалась, вытирая слезы передником, который почти никогда не снимала.
— Мам, — растерялась я, — при чем тут сало?
— Ирочка! — всхлипнула мать. — У тебя любовь, а он, черт старый, попользуется и выгонит. Вот попомнишь мое слово — выгонит… А им девичество…
— Не надо, мама, — пыталась утешить я. — Это когда о девичестве пеклись? А сейчас времена другие. И простынку не стелют. Но не в этом дело… Я бы не стала жить с человеком, который презирает меня.
— Много ты знаешь… — обессиленно повернула она в мою сторону мокрое лицо. — Когда жить негде станет, да еще и дети пойдут, когда он тебе будет деньги давать, которых и на две недели не хватит, а нужно будет на месяц растягивать, вот тогда запоешь, никому не нужная, с детьми под мышкой и чемоданом в зубах. Вот тогда запоешь, — провидчески пообещала мне мать и отвернулась, пряча хлынувшие с новой силой слезы.
— Может, ты так и жила… Что ж… — Я хотела вызвать в себе чувство жалости к ней, но возникало нечто иное, совершенно противоположное. — Как хотела, так и жила. И не нужно искать оправданий, а уж тем более давать советы.
— Что? — удивленно повернулась она в мою сторону.
— А то, что если сама не сумела свою жизнь устроить, то как же ты мою собираешься устраивать? Ты жила — как умела, и дай жить мне! Может, у меня и лучше получится.
— Не понимаешь? Добром не понимаешь? Все равно не позволю! Мала еще, пока что я за тебя в ответе. Я да отец!
Мать металась между мной и сумкой, в которую я тщетно пыталась запихнуть то тетрадь, то платье. Все, что я укладывала, она тут же извлекала наружу и отбрасывала в дальний угол комнаты.
Когда в углу образовалась довольно приличная куча, я в сердцах плюнула, схватила со стола будильник, зачем-то сунула его во внешний кармашек сумки, надела пальто, сапожки и ринулась вон.
Мать устроила грандиозный скандал на лестничной площадке перед дверью Кирилла Михайловича.
Такие скандалы умела закатывать только она, ни до, ни после я не сталкивалась с более продуманной постановкой скандального действа.
Вот, вероятно, откуда мои лицедейские зачатки!
Вначале каким-то образом на месте действия была собрана масса народу. Уж откуда они появились еще до спектакля, Бог весть!
Впечатление создавалось такое, что не менее месяца по городу шла рекламная кампания, и, казалось, в толпе непременно должны продаваться программки, иллюстрированные буклеты и календарики для коллекционеров с фотографиями главных действующих лиц.
Предшествовало всему короткое вступительное слово с пояснениями и ремарками, потом звонок в дверь, и, когда ничего не подозревающий Кирилл гостеприимно распахнул дверь, сюжет стал развиваться так интенсивно, с таким напором динамичного потока интонационных перепадов, подкрепленных вполне конкретно физической динамикой, что Кире ничего не оставалось, как ретироваться в глубь помещения, увлекая за собой всех поклонников самодеятельного спектакля.
Большего унижения я в своей жизни не испытывала.
На следующее утро мать повела меня к гинекологу, где в изумлении обнаружила, что вела войну с ветряной мельницей. Для меня это был шок, для нее — повод для новой вспышки гнева и яростного желания отстоять право на неподсудность своих действий.
Перестав взывать к моему благоразумию и девической порядочности, она перешла в наступление.
— Ты специально издевалась надо мной! Специально! Ты выставила меня на посрамление перед людьми.
Я пыталась оправдываться, но те редкие слова, которые мне удавалось вставить, вызывали в матери еще большее кипение негодования.
— Но почему ты не сказала, что между вами ничего не было! Тебе без позора жить скучно?
Мне надоело оправдываться.
— А почему ты решила, что ничего не было?
— Но врач… — затормозила мать, вопросительно взглянув на меня.
— Что врач? Что он знает, этот твой врач?
— Он же видит… — осеклась мать. — Или не так?
— Нет, мамочка, не так! Он ничего-ошеньки не видит!
— Так, значит, не в постели?.. — Она вновь закипала. — Я его посажу! Посажу кобеля драного! За развращение!!! Малолетних! Так и передай, пусть адвоката ищет.
— Адвоката… В постели, не в постели… Какая ты примитивная! — Я тяжело вздохнула и отвернулась от нее. — Главное, чтоб в постели не было? — Я резко повернулась к ней и со злостью крикнула: — Не было! Ничего не было! Врач твой знает про это, а что в душе было, он знает?
— Ирочка! При чем здесь это? — Перепады настроения матери поражали и бесили меня своей неожиданной сменой.
— Конечно! Конечно!! При чем здесь душа?! Главное, чтоб простынка чистая, а душа, она — что? Так! Тонкие материи, кто их видит? Их, по-твоему, и в грязь можно, и в дерьмо!
— Ирочка… — Мать приблизилась ко мне, пытаясь взять меня за руку.
— Только простынку отстираешь, откипятишь — и она беленькая. А душу как? Как душу? — Я заплакала и уже сквозь слезы непонятно к чему приплела: — Говоришь, свекровь сало гноила? С голоду дохли… Как же ты…
— Ирочка!
Ну вот и все. Мать обрела подтверждение моей девственности и окончательно потеряла меня.
5
Вечером я не вернулась домой, но и к Кириллу пойти не посмела. Просидела всю ночь на вокзале в полутемном зале ожидания и рыдала крокодильими слезами.
Утром я забралась в первую электричку и укатила невесть куда. На одной из станций, не выдержав очень уж пристального взгляда и въедливых расспросов участливого попутчика, я, неожиданно для себя, быстро поднялась с сиденья и выбежала в тамбур.
Двери уже с шипением закрывались, но я, извернувшись, выскользнула на платформу. Прямо от платформы в глубь леса скатывалась с пригорка вьющаяся тропинка. Выбора не было, и оставалось, проваливаясь по колено в снег и путаясь в отяжелевших полах промокшего пальто, идти по редким, неявным следам предшественника-аборигена.
Мне все казалось, что вот сейчас выскочит из-за угрюмых елей голодная волчья стая, и клочья моей одежды разнесет ветер, кровь заметет поземка, а кости растащут лисы, и только душа моя останется нетронутой и светлой дымкой вознесется к небу.
Было жалко себя неимоверно, и от явственности воображаемого исхода я вновь зашлась в плаче.
Но волков не было, утро входило в свои права, и на горизонте показалась заснеженная, богом забытая гуцульская деревушка.
— Здравствуйте, — обратилась я к первой встреченной мною женщине.
— Здрастуйтэ.
— Я могла бы здесь у кого-нибудь остановиться?
— Та хоч у нас.
— У меня нет денег.
— А шо — деньги? Как надо остановиться, так просим до хаты. Побудь, поживи, как надо… Миша! Гэй, Миша, до нас гостья! Иды до хаты, а я подою в хлеву.
Миша, кряжистый, сухощавый, чернолицый дедок гостье не удивился. Словно то и дело шастают по горам в городских обновах заплаканные девки.
Он поставил на стол самогону, нарезал толстыми ломтями хлеб, выложил на блюдо обожженной глины квашеную капусту и рядом поставил два граненых стакана.
— О…О! Расстарався! Дивчина ж ще. Прячь горилку, гэть! На, доця, це молочко.
— Галь, та ты спытай, може, граммульку?
— А шо пытать? Прячь, кажу!
Хлопотливая баба Галя налила полную кружку молока, обтерла руки о передник и торжественно вручила мне молоко на расписном подносе. Поднос в употреблении был нечасто, видно, предназначался он исключительно для обслуживания дорогих гостей. Вот, мол, и мы не лыком шиты, культуру тоже знаем.

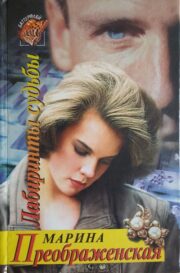
"Лабиринты судьбы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Лабиринты судьбы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Лабиринты судьбы" друзьям в соцсетях.