Эндрю Дэвису, который адаптировал роман для телевидения, достало проницательности повести себя этакой художественной повивальной бабкой и перетащить дитя со страниц на экран в виде, поелику возможно, не искалеченном. Что ни говори, а перед ним был пример фильма 1940 года с Лоренсом Оливье и Грир Гарсон в главных ролях (опирающийся на сценарий, написанный, среди прочих, Олдосом Хаксли): прямое доказательство тому, что любое вмешательство в текст низводит оригинал до размягчающей невнятицы. Прочтение Хаксли ужасающе бодрое; там даже леди Кэтрин де Бёр — симпатяга. И все-таки экранизатор — он экранизатор и есть. Ничего не попишешь, приходится делать, что полагается. А добродетельные и недремлющие «джейнисты» настороже — чуть что, и поднимут шум, если хоть слегка нарушен декорум.
В самом начале, видя Элизабет в спальне, которую она делит с Джейн, мы слышим, как она говорит: «Если б я могла полюбить человека, который полюбит меня всего с пятьюдесятью фунтами в год, я была бы очень довольна». Тем самым мы знакомимся с финансовой ситуацией (а вскоре после того наблюдаем мистера Беннета вздыхающим над конторской книгой); однако таким образом Элизабет приписывается склонность к бесплодной мечтательности, что несколько противоречит ее демонстративному стоицизму. Позже, когда разразится скандал по поводу бегства Лидии, а Дарси мрачно расстанется с Элизабет в гостинице возле Пемберли, Остен пишет: «Элизабет осознала всю невозможность того, что теперь они когда-нибудь встретятся с той сердечностью, которая отличала их последние свидания в Дербишире». В фильме это переводится строчкой внутреннего монолога: «Я больше никогда его не увижу». Таким образом, слова Остен выказывают стойкость перед лицом несчастья, тогда как строка Дэвиса — это признание в любви, которой Элизабет пока еще не испытывает. Каждый сдвинутый камешек угрожает цельности всего здания.
Телевидение есть телевидение, и телевизионщик хочет визуального воплощения всякого «этого» и «того». А визуальное, как это ни смешно, всегда буквально. Любой развернутый пассаж сценической экспликации снабжен щедрым коллажем. Письмом Дарси к Элизабет, со всеми его откровениями относительно личности Уикхема, вдохновлена сцена в Кембридже: Дарси в мантии и плоской магистерской шапочке шагает под колоннадой, взбегает по ступенькам — и застает ухмыляющегося Уикхема с полуодетой горничной на коленях. Мы видим полуночное бегство Лидии и Уикхема (ба, как уютно они угнездились в коляске!); видим, как Дарси в поисках беглецов прочесывает Лондон; видим их в неприбранном номере убогой таверны. Элизабет и Дарси не просто думают друг о друге, их преследуют видения и галлюцинации — так, видимо, припекает…
Менее значительные вмешательства Дэвиса, как правило, довольно удачны, а порой даже и положительно счастливы. Но «джейнист», любой, — сущая принцесса на горошине. Уикхем не говорит, что Дарси «наотрез отказался» (хотя мог бы — выражение достаточно старо). Элизабет никогда бы не сказала (скептически): «Потрясающе!» Даже Лидия и та не повторила бы, в изумлении, такую (присочиненную) фразочку, как «полный лагерь солдат…». И не сказала бы: «Похохочем немножко». Когда Элизабет в первый раз отвергает руку и сердце Дарси, он замечает, что она отказала ему, «сделав столь мало попыток соблюсти вежливость», тогда как в книге значится куда более выразительное «приложив столь мало стараний». Несколькими страницами выше утрачен изящный вводный оборот, из-за чего предложение «Я подумал, что, по меньшей мере, в сад забрались свиньи!» упростилось до «В сад забрались свиньи». Можно бы и продолжить, но, сдается, я уже испытываю терпение читателя. Коли так, то повторю еще раз, что эти крошечные детали, эти сущие пустяки представляют собой атомы, из которых и слагается вселенная Джейн Остен. Погрузившись в ее книги надолго, я обнаруживаю, что сознание мое полностью подчиняется ритму ее мысли. Нормальное общение с современниками становится затруднительным. На меня косятся. Если, к примеру, звонит издатель, чтобы справиться, как продвигается текущая работа, я борюсь с желанием ответить: «Увы, сударыня, мне что-то неможется. Меня снедает желание остаться наедине с Джейн. Вправе ли я, ввиду этого обстоятельства, смиренно просить вас о продлении срока еще на неделю?»
…В книге Дэвида Лоджа «Академический обмен» щуплый, весь в твиде, британец едет по обмену в США, в государственный университет Эйфори, на Западном побережье, в то время как его внушительного вида стремительный коллега прибывает в Англию, в залитый бесконечным дождем заштатный красно-кирпичный университет в Раммидже. Американец, Моррис Запп, устало начинает занятия:
«— Ну-с, что вам не терпится обсудить сегодня?
— Джейн Остен, — пробормотал юнец с бородкой.
— А, да. А тема какая?
— „Джейн Остен и ее представления о морали“.
— Вот как? Что-то это на меня не похоже…
— Я не понял темы, которую вы дали, профессор Запп.
— Тема была „Эрос и Агапе в позднем творчестве Остен“, верно? Что же тут непонятного?
Студент поник головой».
Собственно, шутка кроется тут в контрасте критических стилей: британцы еще скованы этическими баталиями, патрулируемыми Ф. Р. Ливисом, а американцы уже рванули в архитектонику мифа и структурализм. Но на более глубоком уровне Лодж подразумевает, что непостижимым образом Джейн Остен способна дать занятие всякому. Моралисты, «эротисты и целомудристы», марксисты, фрейдисты, юнгианцы, семиотики, деконструктивисты — каждый найдет себе поле для игр в этих шести, один подобен другому, романах о провинциалах из среднего класса. И для каждого поколения критиков и читателей книги Остен, безо всякого усилия, рождаются заново.
Всякий век привносит с собой свои особенности, и нынешний остеновский бум вполне обнажил наши собственные тревоги. Мы с кайфом роскошествуем в мире Джейн, смакуем тонкости его смыслов и подтекстов, но отклик наш в основном вполне трезв. Внимание приковывается прежде всего к тому, как ограничены были возможности женщин, как краток их расцвет, когда они могли вступить в брак, как мертвяще медленно тянулось при этом время. Мы отмечаем, как много было поводов причинить человеку социальный урон и как заинтересованы были власть имущие в нанесении такого урона. Мы видим, как мало возможностей защититься от тех, кто их ненавидел, было у людей, властью не облеченных. Мы недоумеваем, откуда же взять жениха бесприданнице. Бедный жениться не может. Но и богатый тоже не может. Но тогда кто же? Мы маемся их вынужденным затворничеством (как отчаянно эти киношники стремятся вытащить персонажей на свежий воздух!). Превыше всех добродетелей Джейн Остен ставила «искренность»; но искренность, как мы ее понимаем, не имеет там никакой почвы для саморазвития. Один откровенный разговор между Энн Эллиот и Фредериком Уэнтвортом, и «Доводов рассудка» — как не бывало. Мы рады бы поделиться с ними нашими удовольствиями. Мы поражаемся их способности к самоограничению. И мы в ужасе от томившей их одуряющей, всепоглощающей скуки.
Прессой уже отмечено, что новый сериал Би-би-си вскрыл латентную «чувственность», которая таится в творениях Джейн Остен; естественным образом в фильме обнаруживается и куда более откровенная чувственность, присущая уже не ей, а нам. Остен, в конце концов, славится своей рассудочностью — это воистину скареда в описании всего, что касается еды, одежды, животных, детей, погоды и ландшафта. Но мы, в наши девяностые, этого ни за что не потерпим. Так что на телеэкранах в самом зачине Дарси и Бингли мчатся по направлению к Незерфилд-парку на своих всхрапывающих конях, в то время как Элизабет неподалеку наслаждается прогулкой, вприпрыжку, по холмистым окрестностям. Позже, выбравшись из ванны, Дарси выглядывает в окно и видит, как Элизабет резвится с собакой. Полуодетая Лидия налетает на мистера Коллинза и, хихикая, смущает его своим декольте. В муках безрассудной страсти к Элизабет Дарси занимается фехтованием. «Я это переборю, — бормочет он про себя, — переборю!» А по пути в Пемберли, небритый, стискивая коленями горячего коня, не выдерживает, спешивается и импульсивно бросается в пруд. Здесь, совершенно очевидно, мы удаляемся от Джейн Остен и приближаемся к Д. Г. Лоуренсу и даже Кену Расселу. «В книгах Остен вдосталь подавленной сексуальности, — заявил Дэвис, — и я выпустил эту сексуальность наружу». Но за чем остановка? Почему бы не дать ей таблеточку витамина С, не помассировать спинку? Нет, персонажи Остен сопротивляются манипуляциям века терапии. Будучи созданиями литературными, они подпитываются подавлением чувств. Именно в этом источник всей их противоречивой энергии.
Теперь об исполнителях, представляющих собой свидетельство феноменально глубокой, аккуратной и тактичной режиссуры Саймона Лэнгтона. Дженнифер Эли — не вполне безупречная Элизабет потому хотя бы, что таких созданий в природе не существует; Элизабет, попросту говоря, это Джейн Остен, только одаренная красотой, а такая Джейн Остен Элизабет никогда бы не сотворила. Эли обладает энергией и теплотой; ее улыбка полна прелести почти оргастической; она умудряется выглядеть одновременно и соблазнительной, и ранимой в этих платьях для беременных «а-ля стеганый чехольчик для вареного яйца», в которые ее ради пущей «достоверности» обрядили; и у нее прекрасные глаза; вот только вжиться в чужую личность ей не вполне удается. Колин Фёрт — это Дарси, который изощренно-убедительно претерпевает развитие от неподкупной прямоты и невозмутимости к сердечному чувству. Чтобы познать свое сердце, Элизабет только и нужно, чтобы перед ней выложили все факты. Дарси же для этого требуется преодолеть не меньше двух веков эволюции. Украшение актерского ансамбля — Элисон Стэдмен. Нашлись зануды, которые сочли, что ее миссис Беннет простовата и по-диккенсовски карикатурна, на самом же деле ей удалось добиться поразительного равновесия между горечью и кипящей вульгарностью (и равновесие это поддерживается ее воспоминаниями о собственной привлекательности). Сюзанна Харкер создала образ спокойной, уютно тяжеловесной Джейн; Джулия Соэлха воплотила «животный темперамент» Лидии; Дэвид Бэмбер восхитительно изобразил мистера Коллинза кривлякой-мазохистом; а Анна Ченселлор за изощренными колкостями Кэролайн Бингли обнаруживает вдруг неожиданную уязвимость. Единственная серьезная актерская неудача в фильме — это мистер Беннет. Свой текст Бенджамен Уитроу проговаривает вдумчиво и убежденно, но уж со слишком явной готовностью прячется он за иронией и усмешкой. Наиболее циничный персонаж во всей Джейн Остен, мистер Беннет, — это темный фон яркого зеркала. Он также очень близок своей создательнице, и его слабостей Джейн Остен побаивалась в себе самой. В фильме же мистер Беннет своим отчаянием щеголяет.
«Сенсуализмом», привнесенным в фильм Дэвисом и Лэнгтоном, обеспечивается одно несомненное приобретение: все эти в кремовых тонах мечтательно-полусонные сцены в спальне, которую делят Джейн и Элизабет — при свечах с распущенными волосами, — дают нам почувствовать всеопределяющую силу их сестринской любви. Нам напоминают тем самым, что эмоциональная значимость книги интимно связана именно с этими отношениями; и мы ощущаем этот груз, не отдавая себе отчета в том, почему же он так весом и значим. Наблюдая в «Чувстве и чувствительности» сцену, когда Марианна только что не умирает (любовные томления, лихорадка), я сам дивился тому, что так сжалось сердце, когда Элинор, обращаясь к сестре, назвала ее попросту «родная» (в оригинале «dearest» — самая моя дорогая, дражайшая). Мы тронуты так потому, что ласкательное слово до буквальности верно — и вполне может остаться таковым до конца дней. Ибо любовным отношениям тех, кто не вышел замуж, не предстоит никакого переустройства; роднее тех, кто рядом, у них никого нет. И не будет. В «Доводах рассудка» мы еще глубже сочувствуем Энн Эллиот в тот момент, когда та ищет тепла в лишенном юмора солипсизме своей сестры Мэри. И наивно утешаем себя тем, что у Джейн Остен — пусть жизнь и недодала ей — все-таки была Кассандра.
…В заслугу фильма «Четыре свадьбы и похороны» можно поставить то, что благодаря одной сцене, вызывающей и для него характерной, в списки бестселлеров попал изданный под шумок томик стихов Одена. Книгу назвали «Открой мне правду о любви» и поместили на обложку фотографию Хью Гранта (а Грант, кстати, весьма правдоподобно сыграл Эдварда Феррарса в «Чувстве и чувствительности»). Оден о Джейн Остен отозвался здорово, но несправедливо:
Ее талант достоин удивленья:
Подобной силы и у Джойса нет.
Как удалось ей, барышне кисейной,
Так четко показать, что звон монет
В делах любви — залог любых побед,
И вывести из этого канона
Структуру социального закона?..[19]
Ну, уж мы-то, люди 90-х, наверняка шокировали бы Джейн Остен всем набором наших неопрятных и неограниченных свобод. А кроме того, в строчках Одена есть передержка. Да, «презренный металл» принудил Шарлотту Лукас принять предложение мистера Коллинза («унизив себя» браком по расчету), но полюбить его — нет, не заставил. Элизабет же отвергла и мистера Коллинза, а затем, «со столь малым старанием проявить вежливость», и мистера Дарси, со всеми его десятью тысячами в год. Рассуждая об «Элегии» Грея, Уильям Эмпсон сказал, что стихотворение показывает убогость жизни в провинциальной глуши, не внушая, однако, читателю такого настроя, когда ему захотелось бы что-то изменить в этой жизни. Призыв к «изменениям» — это забота сатириков. Сатира — воинственная ирония. Просто ирония, ирония как таковая — куда более долготерпелива. Она не побуждает изменить общество, она придает сил его выносить. Джейн Остен и впрямь была английская старая дева из среднего класса. В сорок один год она в мучениях умерла. А с другой стороны, живехонька уже больше двухсот лет, и хотя возлюбленные у нее платонические, имя им — легион.

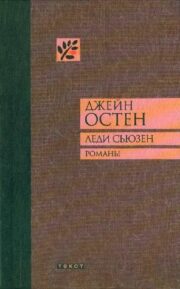
"Леди Сьюзен" отзывы
Отзывы читателей о книге "Леди Сьюзен". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Леди Сьюзен" друзьям в соцсетях.