Закусываю ладонь и сползаю по стеночке, загоняя поглубже вновь рвущиеся наружу слезы.
— Леся? — голос подруги бьет по вискам хуже боли, что рвет грудь. Поднимаю голову. Айя стоит рядом, взъерошенная, встревоженная и такая...счастливая. Странно, учитывая ее беспокойство в синих глазах. Но...это счастье...она пропитана им. Оно в ней вместо крови течет по артериям, разгоняет до запредельных цифр ее материнское сердце.
А мое? Что с моим сердцем? Почему оно так болит?
— Айя, — улыбаюсь дрожащими губами и чувствую, как слезы все-таки катятся по щекам.
— Леська, ну ты чего? — она садится рядом, вытягивает ноги.
Кладу голову ей на плечо. Она пахнет выпечкой и домом. Так тепло.
— А я не Леська, — вдруг выдыхаю, всхлипнув.
Подруга смотрит на меня, выгнув свою идеальную бровь. В синих глазах — рыжие точки, так похожие на смешинки. Снова всхлипываю и кулаком нос вытираю, как в детстве.
— Я теперь Сашка, — отвечаю на невысказанный вопрос подруги.
— Сашка… — повторяет подруга. — Это правильно. У тебя теперь семья.
— Даа, — протягиваю, хлюпнув носом. — Только не нужна я им. Никому не нужна…
— Ууу, — тянет подруга многозначительно. — Так, подъем. — Она резво встает, от неожиданности я чуть не падаю, но Айя тянет меня за руку. — У меня есть отличное средство от твоего «не нужна».
— Пить будем? — усмехаюсь, когда мы усаживаемся в беседке на улице. Айя выставляет на столик пузатую бутылку коньяка, стаканы, несколько блюдец с нарезкой, фруктами, шоколадом.
— Тараканов топить, — веселится Айя.
А я присматриваюсь к подруге. На ней домашний костюм: брюки и футболка, светлые волосы заплетены в свободную косу, а на красивом лице мягкая улыбка.
— Айка, как я по тебе соскучилась.
Айя смеется, разливая коньяк по бокалам. Здесь хорошо. На востоке розовеет небо. Цикады еще стрекочут, но где-то далеко, ночным эхо. Вокруг полными бутонами цветет чайная роза. Ее аромат, такой сладкий, от которого щемит в груди. Сердце уже не так лупит по ребрам, но все равно болит.
— Хорошо у вас тут, — делаю глубокий вдох, позволяя чайному запаху заполнить легкие. Отпиваю коньяк. Терпость напитка пьянит, вяжет язык мягким бархатом и теплом стекает по горлу. Только ничерта не помогает. Отставляю бокал. Не хочу пить. Совсем. Перевожу взгляд на задумчивую подругу. Мягкая такая, нежная и вдруг ловлю себя на мысли, что Алексу невероятно повезло с женой, а подруге очень к лицу материнство. — И ты...похорошела. Материнство тебе к лицу.
Айя тихо смеется, заправляет за ухо светлую прядь волос. А мне почему-то становится неуютно рядом с ней, такой красивой. Она как будто сияет изнутри. Все-таки верно говорят, что счастливых женщин видно сразу.
— Что случилось, подруга? Куда делась та сильная и смелая оторва, которую я знала? — она смотрит внимательно, и под ее испытующим взглядом я тянусь к бокалу, катаю его в ладони, наблюдая за янтарной жидкостью.
— Тараканы сожрали, — припоминаю ей ее шутку. Айя фыркает. Но этот ответ ее не устраивает. А у меня нет ответа на ее вопрос. Зато есть другой, который сейчас кажется самым правильным. И который, наконец, усмиряет боль. Хотя я точно знаю, что она никуда не делась, просто крысой сбежала в темный угол. Потому что эти простые три слова ровным счетом не меняют в нашей поганой реальности: — Я люблю его. С шестнадцати лет люблю. С самой первой встречи, когда приперлась к нему, вымокшая, плачущая. С того момента, как он купал меня, а потом лечил.
Вздыхаю и ловлю на себе изумленный взгляд подруги.
— Охренеть, — выдыхает светлая девочка Айя и залпом осушает бокал.
— Ого, — только и могу выдать, наблюдая за ее пассами. — Хотя...сама в шоке.
— Руслан в курсе?
Качаю головой. Как он может быть в курсе, если это я поняла только сегодня? В тот самый момент, когда он пообещал никогда не отпускать. Накрыло просто осознанием, какая я была дура. Потратила столько лет на миражи, принимая за любовь какую-то несвязную ерунду.
— Но зато теперь ясно, почему ты ушла от Корзина, — она отрывает бубку винограда и кладет в рот.
— Я не уходила...Стоп! Что значит, ушла от Корзина? С чего ты взяла?
Айя хмурится. А потом рассказывает, как несколько недель Корзин приходил сюда. Это было в тот день, когда меня арестовали. Он приходил, хотел поговорить с Алексом, но того не было дома. Тогда он Айе и сказал, что брат мой добился, чего хотел — я от него ушла.
— Говорит, записку оставила, вещи забрала…
— Ерунда какая-то, — перебиваю, растирая переносицу. Действительно, ерунда. Да, я оставила Корзину записку, в которой написала, что меня подставили и чтобы он ни в коем случае не совался в это дело. Даже фамилию следователя написала. И никакие вещи не забирала. Но с другой стороны, это объясняет тот факт, что ни Алекс, ни Корзин не приходили ко мне в СИЗО. Они просто решили, что я сбежала от мужа в неизвестном направлении. Зато приходил Руслан. Но он меня не подставлял. Тогда кто?
— Не ерунда, — возражает Айя и кладет на стол передо мной измятый тетрадный лист. Я долго вчитываюсь в строки, написанные аккуратным и очень похожим на мой почерк. Вот только эту записку писала не я.
— Я не писала записку. Вернее, писала, но совсем о другом.
— Тогда кто? Это же твой почерк, верно?
Мой — да, только не мой. Черт! Замираю, припечатав ладонями листок к столешнице. Все так. Точь-в-точь. Но не совсем. Я всматриваюсь в завитушки букв и не верю собственным глазам.
Я точно знаю, кто написал эту записку. Осталось выяснить, зачем?
Глава девятнадцатая: Рус
Ты должна мне дать ещё один шанс,
Это не может быть концом –
Я всё ещё люблю тебя...
Я всё ещё люблю, и мне нужна твоя любовь…
Scorpions «Still loving you» (вольный перевод)
Проснуться и не обнаружить рядом дочь, точно зная, что засыпали вместе — неожиданно страшно. Толчок и я уже на ногах. И даже запоздалое понимание, что я в безопасности и здесь, в доме Алекса Костромина, нет угрозы — не помогает. Страх уже во мне, противной крысой подбирается к уснувшим демонам, щекочет их сонные морды. И они настораживаются тут же, стряхивая оковы муторного сна.
Сбегаю по ступенькам и замираю в пороге кухни звонким:
— Мы должны его спасти.
Дыхание сбивается. Прислоняюсь затылком к стене, стараясь ничем не выдать свое присутствие. И где-то на задворках страха горечью растекается обида. Какая-то глупая, детская. Она меня обманула. Моя дочь меня обманула. Она разговаривает. Так хорошо и чисто, словно не молчала последние пять лет. Словно не было в ее жизни ни единого потрясения и ее надломленного: «По-мо-ги».
— Ты ведь уже делала это, — без запинки продолжает говорить Богдана. В ее чистом голосе нет страха или неуверенности. И если я бы уже не слышал ее звонкий голосок, ни за что не поверил бы, что это говорит моя Звездочка.
— Ты знаешь, — удивленный голос Ксанки, чуть хриплый и встревоженный. — Откуда?
— Вот, — снова Богдана, а следом тихое шуршание бумаги и тишина, звенящая, невыносимая.
— У тебя замечательная мама, — после долгих минут ожидания вдруг говорит Ксанка. В ее словах горечь, помешанная на радости. Да, Виктория любила нашу дочь. Я увидел это в ее глазах на том единственном снимке, что нашел в доме Воронцова.
— Да, у меня хорошие родители, — легко соглашается Богдана и я уверен, что она совсем не о Воронцовых.
Но Ксанка не понимает, потому что спрашивает:
— И как же я должна спасти твоего папу? — ее голос дрожит. Она боится, понимаю я. Чертовски боится ответа Богданы. Почему?
— Мы, — парирует Богдана. — Мы должны. Мы ведь семья. А в семье все должны помогать друг другу.
— Ладно. Как мы, — Ксанка выделяет это слово, в котором столько эмоций, что меня даже через стену накрывает ими, смывая к демонам мерзкую крысу страха, — должны спасти твоего папу?
— Мы должны убедить его, что мне стало хуже, — на одном дыхание выдает дочка. — Ему нужно уехать, иначе…
— Нет, Богдана, — мягко перебивает Ксанка. Сердце в груди замирает, и я невольно тру ладонью там, где оно прячется под набором ребер, проверяя, стучит ли. Бьется. Глухо и медленно, на грани летаргического сна.
— Мы не будем врать Руслану.
— Но…
— Ты сама сказала, что мы семья, — теперь я слышу улыбку в ее голосе и необъятную нежность. — А в семье не лгут. Я...я однажды соврала твоему папе и потеряла его и тебя. Больше не хочу.
— Но ты же спасла его, — не соглашается Богдана. И сейчас наверняка хмурится. А под ладонью сильнее толкается мое сердце.
— Нет. Его спасла ты, когда пришла к нему. А сейчас ты прячешь от него свои успехи. Не доверяешь ему. Как я когда-то. Так нельзя. Папа любит тебя. И ему будет больно знать, что ты не доверяешь ему, даже если у тебя есть тысяча причин для этого.
— А ты...любишь? — неожиданно тихо спрашивает Богдана.
— Конечно, — ни секунды не думая, соглашается Ксанка. — Конечно, я люблю тебя. Всегда любила.
— Даже когда отдала меня...Вике? — ее звонкий голосок звучит тихо. Я чувствую, что она устала говорить, срывается на шепот. Но я не могу остановить то, что сейчас происходит. Им нужен этот разговор. А я еще немного полежу на лопатках, куда меня опрокинула моя такая взрослая дочь.
— Особенно тогда. Я хотела для тебя лучшей жизни, потому что ничего не могла дать тебе. А когда поняла, что ошиблась, искала. Но...прости меня, моя девочка. Прости...
Слышу, как отодвигается стул. Тихие шаги. Шуршание воды. И снова тишина. Только теперь в ней нет напряжения, но есть что-то другое, хрупкое. И если нарушить сейчас, все рассыплется мелкой крошкой и уже никогда не соберется. Одним глазом все-таки заглядываю в кухню: Ксанка стоит у раковины, склонив голову и прикрыв глаза, словно собирается с силами. А Богдана...рыжее чудо, что перевернуло мой мир, тихой мышкой соскальзывает со стула и прижимается к матери со спины.
Я знаю, что им еще предстоит длинный и непростой путь, но мои любимые девочки сделали огромный шаг через пропасть шириной в двенадцать лет. И я просто смотрю на них и улыбаюсь.
— Упс, — смеется Ксанка, и по ее щекам ползет румянец, когда она встречается с моим взглядом. — Кажется, нас застукали.
Богдана вскидывается в руках матери и смотрит на меня совершенно счастливой зеленью влажных глаз.
Делаю глубокий вдох, наигранно хмурюсь и только потом вхожу в кухню. Намеренно шумно втягиваю пропахший омлетом воздух, смотрю на накрытый к завтраку стол: салат, сок, гренки, солнечный омлет. Завтрак на две порции. Очень любопытно.
— А меня, значит, кормить никто не собирался? — продолжаю изображать гнев главы семейства. — Хозяева где?
— Так укатили еще утром, — отвечает Ксанка, пряча в словах улыбку. Укатили, значит. Нечто подобное я и предполагал, пока шел по коридору, поражаясь тишине этого дома. Непривычно. Теперь ясно. Ураган по имени Матвей вместе с близнецами—смерчиками просто отсутствовал. Интересно, кому в голову пришла такая светлая идея свалить из дома в выходной, когда я точно знаю, что у них на сегодня никаких планов не имелось.
— Ясно. Ну...раз кормить не собираетесь, о чем шушукались, девочки?
— Так завтрак готовили, — снова Ксанка. — Думали, перекусим и пойдем тебя будить. А ты сам…
Смотрю на своих девочек и только теперь вижу на разделочном столе поднос. На нем тарелка с омлетом, гренки, блинчики, пиала с вареньем и яблочный сок.
— Офигеть, — выдыхаю, потому что реально не знаю, что и сказать. Они действительно приготовили для меня завтрак в постель. — Отлично, — усаживаюсь за стол. — Раз я все испортил, будем завтракать вместе. Сегодня и всегда. Тащите, что там у вас.
Богдана споро накрывает стол, усаживается между мной и Ксанкой, и мы просто завтракаем. В полной тишине, которая совершенно никого не напрягает. А я поглядываю на своих девчонок и наслаждаюсь тихим семейным счастьем, о котором даже не смел мечтать. Я не пытаю Богдану, не задаю вопросов и не показываю, что я что-то слышал. Хотя уверен, Ксанка все поняла. Но я не тороплю дочь. Знаю: она все расскажет сама или не расскажет. Это ее право, даже если при мысли, что она не доверяет мне после того, как пришла сама и попросила о помощи, мне очень больно. И я приму его, потому что она уже взрослая. И жизнь тоже ее не пощадила. Жизнь и человеческая глупость.
Но Богдана принимает решение гораздо раньше, чем я разделываюсь с омлетом.
— Дима убил маму, — говорит, чуть запинаясь.
Ксанка роняет стакан с соком, со звоном тот разлетается на осколки. Но она даже не замечает этого. Смотрит на Богдану так ошарашено, что я всерьез трушу за ее состояние: бледнеет за секунду, вцепившись в край стола.

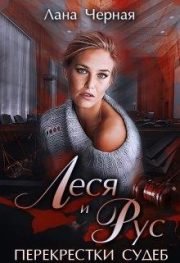
"Леся и Рус" отзывы
Отзывы читателей о книге "Леся и Рус". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Леся и Рус" друзьям в соцсетях.