Пакет был таким красивым, что его казалось страшным открывать. Женя аккуратно сняла розовую ленточку и отложила в сторону, чтобы носить потом в волосах, развернула бумагу. Внутри оказались четыре плоских бело-розовых коробочки. В каждой лежали три пары одинаковых нейлоновых чулок: в первой — оттенка светлого меда, в каждой последующей все темнее и темнее. Бернард достал одну пару и приложил к ладони, чтобы показать, как они выглядят на фоне кожи.
Женя сделала то же самое и заметила, что на ее руке оттенок оказался иным: нейлон как будто припудривал кожу, делал гладкой и загорелой. Такая изысканная вещь для взрослой женщины.
— Тебе они нравятся?
— Красивые, — она порывисто поцеловала Бернарда в щеку, не заметив, как вздрогнул отец от такого проявления любви к незнакомцу, а не к нему.
Следующим днем Женя, как обычно, пошла из школы прямо в больницу. В мужской палате к кровати брата она пробиралась, затаив дыхание, опасаясь, что на нее, здоровую, молодую девушку, больные и раненые мужчины могут посмотреть с укором. Некоторые следом выкрикивали:
— Эй, цветочек! Подойди, дай мне тебя понюхать.
Но она, не задерживаясь, направилась к Дмитрию.
— Уж лучше бы тебе позволили лежать дома, — поцеловала она брата. — Я бы за тобой сама ухаживала.
— Женечка, — хмуро приветствовал он ее, откатываясь на край кровати, чтобы дать место сесть. Она опасалась, как бы, устраиваясь, не причинить ему боли. Брат был слишком отважным и не сказал бы об этом вслух, но временами она видела, как боль искажала его лицо, и пугалась.
— Садись, садись, — настаивал он, похлопывая рукой по одеялу.
Она осторожно усаживалась на кровать.
— Что-нибудь слышно об аресте? — спрашивал брат.
— Ничего.
— Слушание еще не назначено?
— Нет. По крайней мере, я не слышала.
— Сукин сын, — еле слышно бормотал он. — Я уверен, что за всем этим стоит отец.
— Ты все воображаешь! Тебе хочется думать, что она невинна и совершенна. А на самом деле она убежала-то, может быть, потому, что совершила преступление и боялась, что отец это обнаружит.
— Не будь наивным ребенком, — кричал Дмитрий, приподнимаясь с кровати, но боль укладывала его обратно на подушку. — Ты что, забыла? Нет, это ты все воображаешь. Тебе так хочется его выгородить, что ты ни о чем уже не помнишь. Представь себе ее. Подумай! Разве могла такая женщина совершить преступление?
— Она сбежала. Сбежала с другим мужчиной и даже не оставила записки.
— Я и в это не верю.
— Ты ни во что не веришь, хотя все это у тебя прямо под носом.
— Напротив, дорогая сестренка, — он произнес это ледяным тоном, — это ты не хочешь ничего замечать. Я уверен, она оставила для нас письмо. Она всегда так делала, когда уходила из дома. Не в ее характере было уйти, не передав нам ни единого слова.
— Тогда где же оно?
— Спроси у него.
— Ты хочешь сказать, он уничтожил письмо?
— Да. И еще я хочу сказать, что он был среди тех, кто ее арестовывал.
— Твоя нога сводит тебя с ума. Он собирается ее защищать. Он сам мне сказал, что поможет ей во имя прошлого. И просил меня и тебя пойти вместе с ним, — Женя чуть не плакала и говорила все настойчивее и настойчивее, стараясь заглушить сомнения в себе самой.
Дмитрий не ответил, лишь повернул к ней свою белокурую голову. И тогда она взмолилась:
— Скажи, он ведь… он этого не сделал. Он не мог так поступить. Зачем ему уничтожать письмо. Ну, скажи!
— Сексуальная ревность, — ответил Дмитрий, потерявший невинность восемь месяцев назад, на следующий день после стычки с отцом.
Женя попыталась осмыслить слова брата.
— В этом нет никакой логики. Зачем ему арестовывать жену, чтобы потом помогать. Зачем уничтожать письмо, оставленное для других.
Он твердо посмотрел на сестру:
— Ну как ты не понимаешь? Наталья Леонова была… нет, и сейчас красивая женщина. Талантливая актриса. Женщина, полная любви. Ничего этого в нем нет и никогда не будет. Его душа такая же уродливая, как и лицо. В ней может произрасти только ненависть.
Женю поразила страстность брата:
— Но он нас любит, — запротестовала она.
— Тебя, может быть. А меня — ненавидит. И боится…
— Ты все выдумываешь!
— Боится! Знает, что вижу его насквозь и могу заглянуть в черную дыру, которая у него вместо сердца.
Он так увлекся разговором, что, в отличие от Жени, не заметил двух мужчин, проходивших мимо сиделки: седовласого иностранца в безукоризненном костюме и рядом тяжело ступающего калеку.
Женя почувствовала, как взгляды больных сопровождали вошедших.
Дмитрий же заметил их, когда посетители оказались у ног кровати, и сжался, потом распрямился, губы сложились в саркастическую улыбку.
— Мистер Мерритт! Какая честь. Извините, что не могу встать, чтобы вас приветствовать.
Женя поднялась и подошла к мужчинам. Бернард улыбнулся ей, а Дмитрия спросил:
— Как ты себя чувствуешь?
— Как всегда, прекрасно. А вы?
— Это он разыгрывает из себя мужчину. Не обращайте внимания, — предупредил Георгий.
Американец перевел взгляд с сына на отца и почувствовал вражду между ними. Сам он ушел из дома от отца, когда ему было примерно столько, сколько сейчас Дмитрию. Юноша в его возрасте может о себе позаботиться. Но сломанная нога — паршивое невезение.
— Что говорят врачи? — спросил он у мальчика.
— Что, когда я пойду, у меня будет неважная походка.
— А они не упоминали о возможности восстановительной хирургии? Может, не сейчас, а позже?
Дмитрий в изнеможении откинулся на подушку. Женя разрывалась между ними: она мечтала, чтобы Бернард помог, но видела, брат хочет остаться один.
— Нет, — твердо ответил он. — Об этом они не упоминали. Мы не на Западе, мистер Мерритт.
— При чем здесь это, — сердито перебил его Георгий. — Запад не больше развит, чем мы. Видите ли, — повернулся он к американцу, — у наших врачей и хирургов есть опыт войны. Они приобрели его на полях сражений под огнем. Наша страна — технологическая держава с хорошо развитой наукой, и советские врачи не уступят никому.
Дмитрий посмотрел на отца, открыл рот, как будто хотел что-то сказать, но промолчал. На его губах играла чуть заметная улыбка.
Дежурная врач подошла к кровати и подняла на посетителей глаза, давая понять, что пора уходить.
— Товарищ врач, — начал Бернард.
— Да? — блондинка холодно смотрела на него. В его безошибочно угаданной иностранной внешности и акценте она разглядела вызов своему авторитету.
— Когда вы кончите работать, я хотел бы поговорить с вами. Об этом мальчике…
— Вы его отец?
— Нет.
— Если отец мальчика захочет поговорить со мной, я буду свободна чуть позже. А сейчас позвольте мне осмотреть больного, — и она взялась за запястье Дмитрия, повернувшись спиной к мужчинам.
Женя вышла вместе с ними из палаты, озадаченная грубостью врача. И Георгий, играющий роль хозяина в своей стране, чувствовал себя неудобно.
— Она выполняет инструкцию, — оправдывался он. — Сотрудники больницы не имеют права разговаривать с посторонними.
Бернард проглотил обиду. Она была не велика, приходилось мириться и с большими.
— Ясно. Вы с ней поговорите?
— Да, — пообещал Георгий. Через несколько минут он с Женей пошел в ординаторскую, а Бернард отправился в палату Дмитрия — он хотел поговорить с мальчиком наедине. Американцу было необходимо знать все о Георгии Сарееве.
Хотя Георгий сообщил ему, что их план в основном принят советским руководством, на пути реальной торговли стояло еще множество препятствий. Бернард так еще и не разобрался, кто он: марионетка, выполняющая распоряжения свыше, или политик, стремящийся уберечь себя от критики.
Промышленник заметил и принял к сведению холодность Дмитрия к отцу. Мальчик, вероятно, кое-что сможет рассказать, что поможет Бернарду в переговорах. Например, прояснить дело с матерью — женой Георгия. Американец знал, что она — еврейка, арестована и вот-вот предстанет перед судом по весьма туманному обвинению. Что это — всплеск антисемитизма в Советском Союзе? Если так, то не повлияет ли этот всплеск на будущее Георгия Михайловича и его способность вести переговоры?
Глядя на Дмитрия, миловидного мальчика с голубыми глазами, нельзя было предположить, что он наполовину еврей. Без всяких предисловий Бернард спросил:
— Так что ты думаешь об аресте матери?
Дмитрий пожал плечами.
— Это ошибка? — Мерритт сознавал, что, возвышаясь над кроватью юноши, рядом с которой не было стульев, он походил на инквизитора, вопрошающего с помоста.
— Может быть, — осторожно заметил Дмитрий.
— А твоей матери поможет, если материалы слушания появятся в прессе? Просочатся на Запад?
— Все что мы делаем в нашей стране — это наше дело, мистер Мерритт. Если делаем ошибки, то сами их и исправляем, — он говорил словами матери, которые часто слышал во время ее споров с Георгием. У него не было оснований верить американцу.
Бернард изменил направление вопросов:
— Когда ты сможешь выписаться? — спросил он.
— Не знаю. Может быть, через неделю или две.
— И что тогда?
— Четыре месяца с костылями. А когда смогу обходиться без них, — мальчик выдавил усмешку, — буду хромать.
— Может быть, я смогу помочь. За годы сотрудничества с вашей страной я приобрел здесь много друзей, которые не откажут мне в услуге…
— Мистер Мерритт, — перебил его Дмитрий. — Я советский гражданин и особые привилегии мне не нужны. Здесь, в палате, я лежу с другими людьми: рабочими, как и я, студентами, служащими. У вас в стране вы находились бы в отдельной палате, любые специалисты были бы к вашим услугам, — он моргнул, и волна боли прошла по его лицу. — Привилегии означают власть. Капитализм служит личным интересам. Спасибо за ваше предложение, мистер Мерритт, но оно не для меня.
Бернард почувствовал вспышку гнева, но протянул руку, и Дмитрий принял ее, гордо глядя на американца. Совсем как отец, подумал промышленник.
Дмитрий находился еще в больнице, когда в середине апреля состоялся суд.
Как и просил отец, Женя надела пионерскую форму с белыми гольфами. У нее мелькнула мысль о нейлоновых чулках, но она тут же отбросила ее, поняв, насколько они неуместны. Тетя Катя, словно маленькой девочке, расчесала Жене волосы и, расплакавшись, заплела косы.
Георгий надел военный мундир. Когда они входили в зал суда, чей-то голос объявил: «Секретарь Георгий Михайлович Сареев». Женя увидела, что судья надела очки в металлической оправе и сквозь них посмотрела на вошедшего. Как и у многих других, кто видел отца впервые, на ее лице появилось озадаченное выражение.
Очень прямо Женя села на скамью. Рядом, развернув плечи и сцепив руки, сидел отец. Она чувствовала кисловатый запах его пота, от которого ее слегка мутило. Несмотря на свитер, ей было холодно. Помещение выглядело серым и настолько большим, что даже вместе с публикой казалось пустым, как мавзолей.
Она подалась вперед, чтобы не ощущать запаха. Прокурор стоял рядом с судьей и, сильно жестикулируя, произносил обвинение. Но Женя не понимала ни единого слова: сплошные термины, представлявшиеся Жене сплошной чепухой, потоком лились из его уст в то время, как он чертил руками в воздухе огромные полукружия, подчеркивая значимость обвинения.
Она не могла себе представить, была не готова поверить, что мать здесь появится. Эта драма была не для Наташи. Дома Наташа декламировала длинные отрывки из Чехова и Горького и заставляла небольшую аудиторию смеяться и усмехаться, несмотря на грустное содержание пьес.
— Введите Наталью Леонову-Сарееву, обвиняемую.
Конвоир ввел мать в зал, потом позволил одной пройти к скамье подсудимых. Она шла мелкими шажками, как будто ее ноги были скованы цепью.
Женя видела, как она ухватилась за ограждение и выпрямилась, моргнула и посмотрела в зал.
Заглушая остальные звуки, в ушах Жени стучала кровь. Женя неотрывно смотрела на мать: голубые глаза, обрамленные темными ресницами, белоснежная кожа. Мать выглядела невероятно хрупкой и красивой.

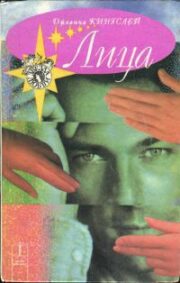
"Лица" отзывы
Отзывы читателей о книге "Лица". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Лица" друзьям в соцсетях.