— Мне пора одеваться и идти в клинику, — в десять у нее была запланирована подтяжка лица престарелому сценаристу. — Хочешь пройтись посмотреть округу?
— Пока нет, — его голос звучал еще печально. — Ты правильно сказала, необходимо время.
Постепенно они стали узнавать друг друга. Иногда проходили дни, а они даже не говорили друг с другом, но, ощущая друг друга рядом, вспоминали прошлое, как будто в их памяти открывались новые ячейки. Одна за другой. Постепенно Георгий начал носить одежду, которую ему купила Жени. Кое-что было велико, но он и слышать не хотел, чтобы поменять вещи.
Иногда день или два они не виделись, когда Жени улетала на восток. Она предпочитала видеться с Пелом там, хотя он постоянно предлагал приехать в Калифорнию. Еще рано, говорила она ему. Она не могла думать без содрогания о них троих в одном доме.
Поездки Жени ободряюще действовали и на нее, и на Георгия. После выходных с Пелом она чувствовала себя увереннее, а отец ждал ее дома, соскучившись по разговорам.
Готовясь к поездке в Америку, Георгий вернулся к учебникам, чтобы освежить английский. Когда уезжала Жени, он разговаривал с поваром, много читал, час или два в день смотрел телевизор. И к концу зимы свободно говорил, набравшись американских разговорных выражений. Теперь они с Жени общались больше по-английски, чем по-русски. Ее владение родным языком было хуже, чем его — английским.
— Ты говорил, что у тебя были сильные сомнения, — напомнила отцу как-то вечером Жени. — Так почему же ты решил сюда приехать?
— Из-за тебя, — ответил он, повернув руки ладонями вверх. — Ты меня ждала.
— Только поэтому?
— А почему же еще? Я прошел через слишком многое, чтобы теперь меня заботила политика или волновали политические системы. Я мог бы дожить жизнь и в России. Но приехал в Америку, потому что меня просила об этом дочь.
— А Дмитрий? А твои внуки?
Если ничего не произойдет, в конце следующего лета они приедут в Америку. Фонд расширил стажировку Дмитрия, и теперь он проведет в Массачусеттсе целый год.
— Мы даже не были друзьями. Дмитрий меня так и не простил за то, что я сделал с его матерью, — Георгий пронзительно посмотрел на Жени. — Это я услал ее туда.
Жени выдержала его взгляд.
— Я знаю. Она мне говорила.
— Я рад, что она тебе сказала. Ненависть свела меня с ума, и я был с ней жесток.
— Но она мне сказала, что ты пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти ее.
— Она так сказала?
— Да. Что ты принял наказание за преступления, которые не совершал, чтобы ей разрешили эмигрировать.
Георгий заплакал.
— Это правда? — мягко спрашивала Жени. Ей хотелось, чтобы он подтвердил это сам. — Ты был чист, но признался?
Он не мог говорить, но кивнул головой.
— Она тебя простила, — прошептала Жени. — За все, что случилось в прошлом.
Несколько минут Георгий еще тихонько всхлипывал, потом достал из кармана большой белый платок и вытер глаза.
— А ты, Жени? Ты меня простила?
— Девочкой я обвиняла во всем ее. Во всем, что случилось после ее ухода. Я осуждала ее за то, что она сбежала с актером, что оставила семью. Считала ее плохой, а тебя хорошим.
— Хорошим? Меня?
— Когда я подросла, — продолжала Жени с трудом, — я постаралась вовсе выкинуть ее из головы. Старалась о ней не думать. Но когда мой брак сломался, я почувствовала себя совершенно одинокой, сомневалась во всем. Я поехала в Израиль, чтобы снова ее найти, и поняла, что моя мать — женщина героической доброты, — она перевела дыхание. — Я так и не сказала ей… Не сказала, что люблю ее. Она умерла у меня на руках. Было слишком поздно.
— Она бы тебя простила, — Георгий обнял дочь.
Жени кивнула:
— А я прощаю ее. Она этого хотела.
Она подвинула стул ближе к отцу, и они сидели, взявшись за руки, и оплакивали разбитую Наташину любовь.
Успокоившись, Жени начала рассказывать о цели своей жизни, как она впервые узнала в Аш-Виллмотте о пластической Хирургии.
— Тогда я уже знала, что стану хирургом. Я провела лето с убогим от рождения ребенком и думала о тебе. Во время учебы в медицинской школе и все годы практики — восемь лет — я думала о тебе. Я мечтала одержать верх надо льдом.
— Льдом? Ладожским? Но когда это случилось, ты еще не родилась.
— Я родилась в этом. И это сделало меня такой, какая я есть.
Он удивленно посмотрел на нее:
— Никогда бы не подумал… Моя дочь… И у тебя до сих пор сохранилась эта мечта?
— Да.
— Ну, тогда я твой.
— Ты хочешь, чтобы я сделала операцию? — выдохнула Жени.
— Да. Дам тебе хоть это, — пробормотал он и добавил. — Я так мало тебе дал.
Через десять дней, без пятнадцати семь, на утро операции Жени в последний раз рассматривала четкие снимки реконструирующей компьютерной системы. Компьютер был их последним приобретением, современным средством диагностической технологии, дающим возможность наиболее точного промера ущербов. Он давал послойные изображения, закодированные в цифровой системе, и позволял планировать операцию на различных ее стадиях. В конце концов получалось трехмерное изображение искомого результата. И сейчас, еще не приступая к операции, Жени видела реконструированное лицо отца.
Систему установили в здании Боннера, в той комнате, где когда-то лежала Чарли, а потом Элиот Хантер: историческая комната. Руки Жени дрожали. Она волновалась и перед операцией Чарли, но сейчас несравнимо сильнее.
Она изучала Снимки, стараясь понять, что могло пойти не так, как надо, во время операции, то, что не предусмотришь заранее, пока не сделаешь разрез. Сейчас она не нашла ничего, никаких возможных погрешностей.
Она отвернулась от сканера и взглянула на часы: семь. Теперь каждую секунду сестра может дать демерол, чтобы в полузабытьи везти пациента в операционную.
Вдруг Жени потеряла всякую уверенность. Вот сейчас она должна идти к нему. Она вскочила и бросилась из компьютерного кабинета к Георгию. Сестра уже готовила шприц.
— Оставьте нас на секунду, — попросила Жени. — Я хочу поговорить с отцом наедине.
Сестра растерянно посмотрела на нее, но повиновалась и вышла, неся перед собой шприц вверх иглой.
Георгий приподнялся на подушках:
— Женечка, что ты здесь делаешь? Я думал, мы увидимся теперь только после…
Жени пододвинула стул к кровати:
— Ты говорил, что приехал в Америку только потому, что я этого хотела. Это правда?
— Правда. Но почему ты…
— Это очень важно. Чрезвычайно. Скажи, почему ты согласился на операцию?
— Для тебя.
— Но разве ты сам не хочешь избавиться от увечья? — у Жени перехватило дыхание. — Разве это не для тебя?
— Я сохранил свое лицо таким, чтобы каждый, кто его видит, вспоминал, что фашисты сделали с нами — с нашей страной, с нашим народом. Когда после войны мне предложили пластическую операцию, я отказался из гордости. Но я знал, что мое лицо заставит меня прятаться от людей.
— Но все это в прошлом! — возразила Жени. — Ты мне рассказывал, как изменился с годами.
Георгий продолжал, как будто она ничего и не сказала.
— Когда я вернулся, я уже не был мужчиной и я заставлял Наташу страдать. Она была красива, желанна. А я ее ненавидел, потому что был страшен и был неспособен ее любить. Я превратился в собственные раны. Понимаешь? Искалечена была душа.
Жени кивнула:
— Но ты говорил, что в ссылке о многом передумал.
— Да. Я понял, что я наделал и кем стал.
— Почему же ты сейчас не хочешь операции?
— Я хочу, Женя. Ради тебя. Согласен нести на своем лице знаки собственной жестокости. Помнить нужно теперь мне одному, а не другим. Я не должен забывать свою чудовищность.
Жени взяла его за руку:
— Ты за все заплатил. Твое наказание длилось слишком долго.
— Недостаточно. Я хотел нести его до смерти, — он сжал ее ладонь и попытался улыбнуться. — Но что я хочу, теперь не имеет значения. Мне надо дать тебе, что ты желала всю жизнь.
— Нет, ради себя я не могу подвергать тебя риску и боли. Я почти забыла, что я врач, и пыталась строить из себя бога, — она положила его руку на кровать. — Я скажу, чтобы тебе принесли завтрак. Можешь одеваться. Мы отменяем операцию.
Лицо отца осталось прежним. Но после несостоявшейся операции и его признания, Георгий стал ей понятен, превратился в настоящего человека и больше уже не был тем, кого она придумала в своем воображении. Всю жизнь Жени любила — или старалась полюбить его, потому что он был ее отцом. Теперь, узнав его, она полюбила его как личность.
Пригретый дочерью, Георгий изменился. У него появились новые интересы, вкус к жизни. Как-то днем Жени провела его по клинике, давая на ходу объяснения. Рассказала о высокоточном оборудовании, о работе, которую они выполняли в обеих частях клиники, о некоторых пациентах. «Утром, — говорила она, — была проведена ринопластическая операция — изменена форма носа Джейн Дарвин, которую до этого оперировали по поводу изменения пола».
— Превращать женщину в мужчину? Не может быть, — твердо заявил Георгий. — Это какая-то несусветная чушь.
В старом здании он почувствовал себя свободнее и тут же понравился пациентам — детям с врожденными недостатками.
Жени купила отцу машину, и два или три раза в неделю он ездил в клинику навестить детей из здания Боннера. Его уже ждали в палате, и он рассказывал о России, вспоминал сказки, которые читал или слышал, рассказывал о днях своей юности. Дети ухватывались за слова, просили повторить полюбившиеся места и наслаждались маленькими пирожками, которые он сам для них готовил. Они называли его дядей Георгием, но думали о нем как о волшебнике-дедушке, который всегда их подбодрит и который знает секрет, отличающий их от других людей.
По вечерам Георгий читал газеты и вырезывал все, что находил о своем зяте. Он гордился Пелом, любил его и восхищался им. И Пел испытывал те же чувства к Георгию, и в один из своих приездов в Калифорнию сказал:
— Понятно, почему мы так ладим: мы оба любим одну и ту же женщину.
Георгий совсем не походил на отца Пела, но после смерти Филлипа в жизни его сына образовалась пустота, и Георгий мало помалу занимал его место. Пел звал его по-русски «отец», и Георгий отвечал ему «сын».
— Ты мне больший друг, чем Дмитрий, — как-то признался он.
Но хотя Георгий радовался обществу Пела в доме на полуострове Монтерей, в Вашингтон он ехать отказался.
— Неприглядный будет вид. Политический деятель не должен иметь такого, как я, родственника, — категорически заявил он.
Жени по-прежнему летала на восток так же часто, как и Пел, приезжавший их навестить. Теперь она могла взять несколько дней подряд: покидать клинику ей стало несравненно легче. С ней работал Стив Лукас, грубоватой манерой напоминавший Макса, и такой же преданный делу квалифицированный хирург. И Клэр Вашингтон, начинавшая в косметическом крыле, и теперь ведущая большую часть административной работы. С Клэр и Стивом — «совестью» клиники — Жени смогла постепенно отстраняться.
Она надеялась открыть кабинет в Вашингтоне или недалеко от города. Пела безусловно переизберут на второй срок, если он захочет еще быть сенатором. Хотя, может быть, он займется и чем-нибудь другим — о Пеле поговаривали как о восходящей звезде. Его работа в сенаторском комитете по международным отношениям привлекла внимание всей страны. Аналитики предсказывали, что если демократы победят на выборах 1988 года, Пел может получить место в правительстве или стать послом США при ООН.
И возможности на этом не ограничивались. Кто знает, какие перспективы откроют для Пела выборы 1992 года? Размышлять об этом было слишком рано, но Вашингтон всегда считался городом Пела, и Жени мечтала там обосноваться.
Но она не спешила, по-прежнему принимая новых пациентов. Не спешила, потому что не знала, что делать с отцом. Он казался довольным, навещал детей, много читал и недавно на собственной земле начал заниматься огородничеством. Но он был стариком в чужой стране и покинул родину ради нее. Как она могла теперь его бросить?
В Вашингтоне ему станет неуютно. Внешность и политическое прошлое, о котором еще многие помнят, заставят его снова прятаться от людей. Жени чувствовала ответственность за отца, но и своего счастья с Пелом она упускать не хотела. Ведь ей уже перевалило за сорок.

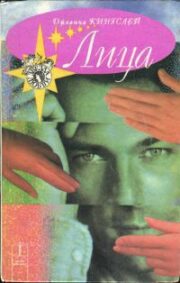
"Лица" отзывы
Отзывы читателей о книге "Лица". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Лица" друзьям в соцсетях.