Итак, у нас была Иви. Она организовывала небольшие вечеринки для мамы и принимала отцовских заказчиков. Если отцу приходилось уезжать (что случалось достаточно часто), он мог быть совершенно спокоен, зная, что Иви о нас позаботится должным образом.
Когда отец возвращался, мама с огромным интересом слушала его рассказы. Ей нравилось считать своего мужа знаменитым художником, чьи работы пользуются большим спросом, хотя сами по себе эти работы ее не особенно занимали. Я видела, как ее глаза подергиваются пеленой непонимания всякий раз, когда он принимался с энтузиазмом говорить о живописи. Зато я отлично понимала его, потому что в моих жилах текла кровь Коллисонов. Я чувствовала себя по-настоящему счастливой только тогда, когда держала в руке тонкую соболью кисточку и легкими движениями наносила уверенные мазки на пергамент или пластину из слоновой кости.
Я, как и мама, носила имя Кэтрин, но чтобы не путать, меня называли Кейт. Я была совершенно не похожа ни на мать, ни на отца. Мои волосы и кожа были значительно темнее, чем у них.
— Привет из шестнадцатого века, — пояснял отец, который, разумеется, был опытным экспертом во всем, что касалось внешности. — Должно быть, ты как две капли воды похожа на кого-нибудь из наших предков, Кейт. Эти высокие скулы и рыжинка в волосах. И золотисто-карие глаза. Такой цвет очень трудно передать. Чтобы получить его, надо тщательно смешивать множество разных красок. Я не люблю, когда приходится заниматься чем-то подобным. В результате может получиться ужасная мазня.
Работа как-то ненавязчиво, но при этом неизменно становилась главной темой наших разговоров, о чем бы изначально ни шла речь.
Мне было лет шесть, когда я дала свой торжественный обет под воздействием подслушанных разговоров слуг о том, что рождение дочери стало большим разочарованием для отца.
Я тогда вошла в студию, остановилась перед высоким окном, сквозь которое струился яркий утренний свет, и произнесла:
— Я стану великим художником. Мои миниатюры будут самыми-самыми лучшими.
И поскольку я была очень серьезным ребенком, к тому же беззаветно и глубоко преданным отцу, не говоря уже о прирожденном осознании своего предназначения, то со всей решительностью приступила к осуществлению задуманного. Поначалу мои усилия лишь позабавили отца. И все же он показал мне, как натягивать пергамент на плотный белый картон и как потом обрабатывать его.
— Кожа — жирный материал, — объяснял он, — поэтому ее надо слегка шлифовать. Ты знаешь, как это делается?
Вскоре я это узнала и научилась натирать поверхность пергамента портняжным мелом и измельченной пемзой.
Затем он научил меня пользоваться масляными красками, темперой и гуашью.
— Но для самых крошечных миниатюр лучше всего использовать акварель, — делился отец своими секретами.
Когда он вручил мне мою личную кисть, я пришла в неописуемый восторг. А когда была закончена моя первая миниатюра, выражение отцовского лица наполнило мою душу гордостью.
Он обнял меня и прижал к груди, чтобы я не заметила слез в его глазах. Отец был очень эмоциональным человеком.
— У тебя дар, Кейт! Ты одна из нас! — воскликнул он.
Мое первое произведение показали маме.
— Очень красиво, — сказала она. — Ах, Кейт, ты тоже гениальна. А я… у меня нет ни единого таланта!
— Тебе вовсе не нужны таланты, — заявила я. — Просто оставайся такой же красивой.
Я росла в очень счастливой семье. Работа сблизила нас с отцом, мы проводили в студии долгие радостные часы. До семнадцати лет у меня была гувернантка. Отец не хотел, чтобы я уезжала в пансион, потому что это прервало бы мое обучение живописи.
— Чтобы стать большим художником, необходимо работать каждый день, — говорил он. — Нельзя позволять настроению управлять тобой. Нельзя заставлять вдохновение ждать, пока ты соизволишь составить ему компанию. В тот момент, когда оно снизойдет до того, чтобы посетить тебя, ты уже должна быть полностью готова к работе.
Я отлично его понимала. И тоже не вынесла бы разлуки со студией. И ни на минуту не забывала о своем намерении стать такой же великой… нет, гораздо более великой художницей, чем любой из моих предков. И я знала, что способна на это.
Отец часто ездил за границу и иногда отсутствовал по месяцу и более. Он даже бывал при некоторых европейских дворах и писал миниатюры для членов королевских семей.
— Я хотел бы взять тебя с собой, — часто говорил он. — Ты пишешь миниатюры уже не хуже меня. Но я не знаю, что они подумают о художнике женского пола. Скорее всего не поверят в то, что выполненная ею работа может ничем не уступать мужской.
— Но ведь они сами могли бы в этом убедиться.
— Люди не всегда видят то, на что устремлены их глаза. Они видят то, что сами себе внушили. Боюсь, они смогут внушить себе, что работа женщины изначально не может сравниться с работой мужчины.
— Какая чушь! Это возмущает до глубины души! — воскликнула я. — Только слабоумные могут так рассуждать!
— Многие из них таковыми и являются, — вздохнул отец.
Мы писали миниатюры и для ювелиров. Они успешно продавались по всей стране. Многие из них принадлежали моей кисти. И тоже были подписаны инициалами К. К. Все восхищались: «О, Коллисон!» И не догадывались, что это работа Кейт Коллисон, а вовсе не Кендала Коллисона.
Когда я была ребенком, мне иногда казалось, что родители обитают в совершенно разных мирах. Отец был рассеянным художником, жившим ради своего творчества, а мать — красавицей, изящной хозяйкой, любившей быть в центре всеобщего внимания. Особенно ей нравилось, когда вокруг вились поклонники, наслаждавшиеся общением с дочерью графа, пусть даже и ставшей женой простого художника.
Я часто присутствовала на ее чаепитиях, помогая занимать гостей. По вечерам она давала небольшие званые обеды, после которых гости усаживались играть в вист или музицировали. Мама и сама часто садилась за рояль. Играла она превосходно.
Иногда ей хотелось поговорить, и она рассказывала мне о своих детских годах, проведенных в Лэнгстонском замке. Однажды я спросила, не сожалеет ли она о том, что променяла замок на дом, который должен казаться ей очень скромным.
— Нет, Кейт, — последовал ответ, — ведь я здесь королева. Там я была всего лишь одной из принцесс, совершенно не имеющей веса или значения. Мне было уготовано выйти замуж за кого-нибудь, кого одобрила бы моя семья, но почти наверняка — не я.
— Должно быть, ты очень счастлива! — воскликнула я. — Ведь лучшего мужа, чем у тебя, и желать невозможно!
Она странно на меня посмотрела и спросила:
— Ты очень любишь своего отца, не так ли?
— Вас обоих, — совершенно искренне ответила я.
И подошла, чтобы поцеловать ее, но она отстранила меня со словами:
— Осторожно, ты испортишь мне прическу, милая.
Затем взяла за руку и сжала ее.
— Я рада, что ты его так любишь. Он заслуживает любви гораздо больше, чем я, — добавила она.
Я ее не понимала. Но мама всегда была ласковой, нежной и радовалась тому, что я столько времени провожу с отцом. Да, моя семья была поистине счастливой, пока однажды утром Иви не поднялась с чашкой шоколада в мамину комнату и не обнаружила ее мертвой в постели.
У нее была простуда, которая развилась в нечто значительно более опасное. Я всегда только и слышала, что мы должны беречь мамино здоровье. Она редко покидала дом. А когда все же делала это, то лишь для того, чтобы поехать в Фаррингдон-холл. Там лакей помогал ей выйти из экипажа и едва ли не на руках вносил в особняк.
Она всегда была хрупкой и болезненной. Считалось, что смерть постоянно ходит за ней по пятам, и эта много лет идущая по пятам смерть стала чуть ли не членом семьи… Мы думали, она будет вечно плестись по пятам. Но вместо этого она вдруг настигла и…
Нам очень не хватало мамы. Именно тогда я поняла, как много значит живопись для нас обоих, для отца и меня. Несмотря на безутешное горе, в студии нам удавалось забыть о своей потере, потому что там для нас не существовало ничего, кроме работы.
Иви горевала. Она так долго заботилась о маме. В то время ей было тридцать три года. Семнадцать из них она посвятила нам.
Двумя годами ранее Иви обручилась. Это означало, что она собралась замуж. Мы пребывали в смятении. С одной стороны, невозможно было не радоваться за Иви, но с другой… так же невозможно было даже представить себе нашу жизнь без нее.
Угроза, впрочем, была несколько умозрительной. Женихом Иви стал Джеймс Кэллум, второй священник нашего прихода. Он был ее ровесником, и они собирались пожениться, как только ему дадут собственный приход.
— Господи, хоть бы это никогда не произошло, — повторяла мама. И тут же добавляла: — Какое же я эгоистичное создание, Кейт. Надеюсь, ты не станешь такой, как я. Впрочем, здесь нечего опасаться, ты никогда не будешь такой. Ты из тех, кто полагается только на себя. Но все же, что мы… что я буду делать без Иви?
Ей не пришлось решать эту проблему. Когда она умерла, жених Иви по-прежнему был вторым священником, так что, в каком-то смысле, ее молитвы были услышаны.
Иви пыталась меня утешить:
— Ты уже почти взрослая, Кейт. Вы найдете кого-нибудь вместо меня.
— Это абсолютно невозможно, Иви. Ты незаменима.
Она улыбнулась в ответ, и я увидела, что бедняжка разрывается между стремлением выйти замуж и опасениями за наше благополучие.
Я понимала, что вскоре Иви нас покинет. Перемены витали в воздухе, но я их никак не желала.
Проходил месяц за месяцем, а Джеймсу Кэллуму все не удавалось получить свой приход. Иви заявила, что со смертью мамы ей стало почти нечего делать, и принялась за консервирование фруктов и всевозможных компотов, как будто она намеревалась обеспечить нас всем необходимым на все то время, когда ее не будет с нами.
Отец вообще отказывался рассматривать всерьез возможность того, что Иви нас покинет. Он относился к тем людям, которые живут настоящим моментом, и напоминал канатоходца, который удерживается на канате только потому, что не смотрит вниз и не думает о подстерегающих его опасностях. Он все идет и идет, даже не подозревая об их существовании, и это позволяет ему благополучно миновать зияющую под ногами бездну. Но могло наступить и такое время, когда бы он столкнулся лицом к лицу с совершенно непреодолимым препятствием. И вот тогда он был бы вынужден остановиться и трезво осмыслить возникшую ситуацию.
В те дни мы часто работали в студии вместе, и между нами царила абсолютная гармония. Я уже считала себя полноценным художником и даже сопровождала отца в один или два дома, где требовались реставрационные работы. Он всегда представлял меня своим подмастерьем, и все считали, что я всего лишь готовлю отцу инструменты, промываю кисти и вообще забочусь о его комфорте. Это меня раздражало. Я гордилась своей работой, а отец все чаще и чаще доверял мне выполнение ответственных заказов.
Однажды, когда мы, как обычно, работали в студии, я увидела, что он держит в одной руке лупу, а в другой кисть.
Это изумило меня, потому что отец всегда повторял: «Не стоит пользоваться лупой. Нужно тренировать глаза, и тогда они научатся выполнять всю необходимую работу. У миниатюриста особенные глаза. Если бы это было не так, он не был бы миниатюристом».
Он заметил мое удивление и отложил лупу со словами:
— Очень мелкие детали. Я хотел убедиться в том, что все рассчитал правильно.
Прошло несколько недель. Нам прислали на реставрацию манускрипт из какого-то монастыря на севере Англии. Некоторые иллюстрации на его страницах выцвели и расплылись, так что работа предстояла весьма сложная. Мы не впервые занимались реставрацией подобных манускриптов. Если они были очень ценными, а некоторые из них датировались одиннадцатым веком, отец ехал в монастырь и выполнял эту работу на месте. Но были случаи, когда менее ценные экземпляры привозили к нам домой. В последнее время я выполнила немало подобных заказов. Таким образом, отец давал понять, что считает меня вполне зрелым художником. Клочок пергамента или пластину слоновой кости можно было испортить, не опасаясь за последствия, но касаться бесценного манускрипта могла лишь рука, не ведающая ошибок.
В тот июньский день перед отцом лежал раскрытый манускрипт, а он пытался подобрать нужный оттенок красного цвета. Это всегда было трудной задачей, потому что требовалось подыскать точное соответствие красному пигменту под названием миниум, или свинцовый сурик. Этот пигмент использовался с незапамятных времен, и именно от него произошло слово «миниатюра».
Он в нерешительности подержал кисть над дощечкой и вдруг отложил ее. В этом движении было столько отчаяния, что у меня упало сердце.

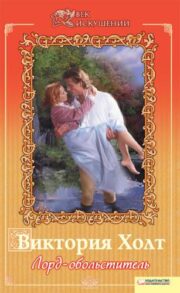
"Лорд-обольститель" отзывы
Отзывы читателей о книге "Лорд-обольститель". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Лорд-обольститель" друзьям в соцсетях.