Когда общее внимание было отвлечено погребением, Елена поспешила вон из лагеря, чтобы побыть одной на пустынном склоне холма, где сгустившиеся сумерки могли бы скрыть ее ярость и стыд.
Елена уважала Дани, доверяла ему, и потребовалось потрясение основ всего мира Елены, чтобы она в нем усомнилась и разошлась во мнении так решительно, как сейчас. Но Дани был не прав… казнь была ошибкой… или она просто слабая женщина, неспособная служить в коммандос? Она старалась размышлять спокойно, избегая эмоций, и всегда приходила к одному и тому же выводу: каждый человек, белый или черный, имеет право на справедливый суд и ни один человек, даже Дани Стейн, не имеет право вершить закон своей рукой.
В то время Елена тоже ненавидела Япи Малана, как любого «хаки-бура», предавшего свой народ, но его убийство, а то, что она видела, можно было назвать только так, побуждало к переоценке происходящего. Малан был буром, и Трансвааль был для него родиной, также как для Стейнов и Гроблеров — он настаивал на этой точке зрения, и Елену, глядевшую вдаль, в сгущавшиеся сумерки долины и тьму будущего, терзало ужасное предчувствие, что после войны «хаки-буры», «хенсопперы» и «бигтерейндеры» уже не смогут снова жить в мире и братстве.
А что об этом думали тогда англичане? Она снова вспомнила выражение лица Деверилла, увидела скорбь молодого лейтенанта из-за смерти его верного слуги. Все, что совершил Дани, служило подтверждением высокомерной веры британцев, что буры — дикари и неспособны сами править страной. Дани опозорил народ африканеров в глазах врагов.
Елена сделала еще более тревожное открытие. На склоне того дикого холма она позволила себе задуматься о рассудке Дани Стейна и увидела, что тот… не совсем нормален. Она начала понимать, что его жестокость превосходила всякую меру, что ее герой — опасный и жестокий фанатик, а не честный африканер, преданный интересам своего народа. Он часто цитировал Библию, и она вспомнила строчки из Книги Левит, которые он выкрикивал, когда кто-нибудь обращал его внимание, насколько британские солдаты превосходят буров числом: «Если будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои хранить и исполнять их… то будете прогонять врагов ваших и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму и падут враги ваши пред вами от меча».
Теперь Елена понимала, что у Дани не было иного бога, кроме бога ненависти.
Но даже тогда она бы не изменила свою точку зрения столь основательно, если бы не неделя, проведенная с Рэйфом Девериллом. Воспоминания затягивали, поглощали ее — серия сменяющихся, расплывчатых образов вельда, сгоревшие фермы, что словно издевались над красотой розовых и белых бутонов в садах; одетые в хлопок и широкополые шляпы женщины и дети на фермах, где они останавливались передохнуть — те мололи муку на ручных мельницах, месили тесто, закатав рукава, поджаривали на сковородках желуди, чтобы изготовить кофейный концентрат с мукой и сушеными персиками. Она вспоминала его коня, «беспошлинного гнедого» — так называли такую масть буры; поскольку в старые времена гнедым лошадям с белой мордой и четырьмя высокими чулками дозволялось миновать места сбора пошлин бесплатно.
Тридцать шесть часов ей удавалось притворяться мужчиной, но затем из-за ее молчания его терпение лопнуло.
— Ради Бога, скажи что-нибудь, даже если просто пошлешь меня к черту! И смотри мне в лицо, когда ты это скажешь — клянусь, ты даже моешься в этой шляпе, если ты когда-нибудь моешься, что сомнительно.
Он сорвал шляпу с головы Елены и ее волосы рассыпались по плечам. Они долго глядели друг на друга, а затем началось это — таинственный всепроникающий эротизм.
— Кто ты?
Она ответила, но сухо, как полагалось военнопленным: имя, звание, номер.
— Почему ты присоединилась к коммандос?
— Либо они, либо концентрационный лагерь. — Теперь она смотрела ему прямо в лицо, свет костра четко обрисовывал ее черты и негодования в ее глазах было не больше, чем он ожидал. — Но, думаю, ты все равно меня туда пошлешь?
— Я постараюсь найти другое решение, — тихо сказал он и протянул руку, чтобы успокоить, но она яростно шарахнулась прочь. — Ты в полной безопасности от меня, — произнес он резко, — особенно пока не помоешься.
Они улеглись спать на расстоянии нескольких футов друг от друга, но, несмотря на усталость, забвение к ним не приходило. Елена была в напряжении, догадываясь о его чувствах — чувствах мужчины, сохраняющего целомудрие в условиях войны, и ожидая, что он попытается изнасиловать ее, но он ее не тронул. Постепенно она подчинилась всепобеждающей усталости и уснула.
Состояние повышенной чувственности сохранялось у нее весь следующий день, пока они продолжали свою поездку на юг. Эта часть Трансвааля была исключительно плодородной и в своем изобилии красок и терпкого аромата цветущих деревьев казалась почти сладострастной. Сады при заброшенных домах обещали богатый урожай фиников, айвы, шелковицы, винограда, гранатов и опунции. Купы дубов и плакучих ив сменялись рядами голубых эвкалиптов и желтого терновника.
Елена чувствовала себя так, словно она едет во сне: все, кроме Рэйфа, представлялось ей туманным и расплывчатым. Она ощущала каждое движение его тела как свое собственное, и даже холмы принимали фаллические формы или очертания женских грудей. При свете дня эти чувства еще поддавались контролю, но когда теплая мягкая тьма окутала их своим бархатным плащом, Рэйф и Елена ощутили себя полностью отрезанными от окружающего мира, и, конечно же, он неизбежно должен был прийти к ней. Но он не пришел.
Когда она увидела, что он спит, она тихо поднялась и, прячась за деревьями, постаралась незаметно проскользнуть по склону к небольшому ручью. Оставив одежду на берегу, она с наслаждением вошла в воду. Бледный диск луны давал столь мало света, что на серебристой поверхности воды она выглядела лишь черной тенью. Когда Елена вышла из ручья, он уже ждал ее, и, хотя она была изумлена его появлением, все-таки не бросилась бежать прочь. Он снял рубашку и осторожно начал вытирать ее тело. Медленно и бережно он водил ей рубашкой по спине и бедрам, и его руки ласкали ее тело сквозь тонкую, легкую ткань, и потом, с возрастающим возбуждением, она почувствовала, как он вытирает ее груди — маленькие, острые, конической формы, что и позволяло ей выдавать себя за мужчину. Рэйф со вздохом выронил рубашку и с нежным пылом сомкнул пальцы на этих холодных как лед грудях, но Елена, до того стоявшая неподвижно, бросилась бежать по склону подобно лани, едва ткань, разделявшая их, была отброшена.
Он больше не прикасался к ней, и она знала, что он все понял правильно. Ее бесстрастное лицо ясно выражало: «Я здесь — однако меня здесь нет. Я твоя пленница телом, но мой дух еще не побежден». Рэйф осознал, что ее отказ заняться с ним любовью был вызван не физическим отвращением и не доблестным желанием сохранить девственность — то был отказ британскому офицеру-завоевателю. Он был врагом ее народа. И хотя Рэйф мог бы попытаться ухаживать за ней, чтобы добиться взаимности, он все равно не мог заставить ее покориться. Елена Гроблер осталась в его памяти символом несгибаемого духа африканерской женщины. Британцы победили буров-мужчин в военной игре, но женщин они завоевать не сумели.
Елена тоже сознавала символичность происходящего. Британцы насиловали ее страну, но этот мужчина ее не тронул. Она не забыла этого — как не забыла и его самого. И Рэйф так и не узнал, как боролась Елена со своими чувствами, как сильно ей хотелось, чтобы он был другом ее народа, а не врагом.
После разгрома отряда коммандос Стейна, когда она попала в плен, он намеревался, сопроводив ее в Мидлбургский лагерь, сдать ее там, но, въехав на холм и оглядев сверху скопище палаток, неожиданно придержал своего «беспошлинного» коня.
— Ты знаешь, где Дани может быть после сражения?
Елена подумала о базе коммандос, куда она отправилась, когда сожгли ее ферму.
— Да, но ты не сможешь заставить меня рассказать.
— Я и не прошу тебя рассказывать. — Рэйф повернулся в седле и взглянул на нее. — Твоего неприбытия в лагерь никто не заметит — военная администрация в таких местах исключительно небрежна. Если ты сейчас уедешь отсюда, об этом буду знать только я. А я обещаю молчать.
Он снял с седла запасную винтовку и протянул ей.
— Здесь шесть патронов, — добавил он. — Хочу верить, что ты не потратишь один на меня.
Елена взяла оружие и амуницию и молча поехала прочь. Но вскоре она остановилась и повернулась к нему, подняв руку в прощальном жесте, и Рэйф помахал ей в ответ.
Она и Дани завершили войну вместе со Смутсом в Нор-Вест-Кэйне, а затем уехала с ним в Юго-Западную Африку. Она инстинктивно чувствовала, что за ним надо присматривать, и что только она понимает, какую угрозу он представляет на самом деле — угрозу, становившуюся все более зловещей с каждым годом изгнания. Дани Стейн был подобен слону-одиночке, покинувшему стадо, опасному и непредсказуемому.
Елена пыталась подавить в себе крепнувшее убеждение, что слонов-одиночек надо пристреливать.
Глава шестнадцатая
На следующее утро Елена пошла за покупками. Она купила мяса и свежих овощей, чтобы приготовить жаркое, содрогнувшись от цен на продукты на алмазных приисках, и обнаружила, что Филип Брайт не выходит у нее из головы. Ее неодолимо тянуло в «Каппс-Отель», и она пошла туда, но только зачем? Из любопытства? У Филипа Брайта что — рога, копыта и хвост, как утверждал бы Дани? Елена знала только, что должна его увидеть, и не могла объяснить себе, зачем все-таки назвала его имя в гостинице.
— Мистер Брайт? — Ее сердце забилось сильнее, когда она увидела его высокую стройную фигуру и испугалась собственной смелости. — Я — Елена Гроблер, свояченица Дани Стейна. Он рассказал мне, что вы здесь. Я просто хотела… — Голос ее упал. Чего она хотела?
— Как любезно с вашей стороны, что вы зашли, — Филип очаровательно улыбнулся. Она была гораздо привлекательнее, чем он себе представлял, а он как раз скучал, ожидая парохода в этом пустынном аванпосте. — Почему вы не поставите свою корзину? Или, может быть, я вам ее донесу?
— Спасибо, здесь продукты для обеда, но вы можете разделить его со мной… если вам больше нечего делать. — Елена с трудом выдавила улыбку, черпая храбрость из того внимания, что она прежде получала от мужчин в Китмансхупе.
— День мой — зияющая пустота… до сего момента. — И Филип последовал за ней, взяв корзину.
До лачуги Дани было всего десять минут ходу, но Елене они казались бесконечными из-за того, что она пыталась скрыть свою застенчивость. Однако по дороге Филип купил несколько бутылок вина и расположился на стуле в кухне, следя за тем, как она готовит пищу, с явным удовольствием и с полной непринужденностью.
Ей исполнилось двадцать пять лет, она была высокой и стройной, с роскошными темными волосами, сколотыми простым узлом на затылке, и глубокими карими глазами, сиявшими бархатистым светом. Ее тело расцвело, а груди налились, став полными и зовущими, но цвет лица слишком сильно напоминал о прошедших годах: его бронзовую кожу не щадили ни иссушающая жара, ни пыль и ветры Юго-Западной Африки, грозя преждевременном старостью.
Филипу она казалась воплощением земной женщины, с простыми, лишенными сентиментальности, чувствами, и черпающей силы от самой природы. Он испытывал наслаждение, созерцая неторопливые движения ее стройного тела и спокойный взгляд бездонных чистых глаз. Случилось так, что ни одна женщина не готовила ему раньше еду; слуги — да, но не женщины… не такие.
Но он мог бы вскоре и забыть о своих чувствах, достойных отношения аристократа к пейзанке, если бы не одно замечание, брошенное Еленой, когда она говорила о Юго-Западной Африке.
— Мне не нравится эта страна, но многие немцы ее любят. Они говорят, что после Юго-Запада Европа внушает им клаустрофобию своей мягкостью, пресыщенностью, плодородием. Юго-Западная Африка — страна контрастов, сложная, дерзкая, яркая, стихийная. Здесь все ближе к жизни… и к смерти.
Стихийная. Да, такова была и Елена. Она была матерью-землей, которая дает человеку возрождение или смерть. Руки Филипа слегка задрожали от странного предчувствия — чего? Он встряхнул головой, стремясь освободиться от наваждения, однако эта аналогия, конечно, основание под собой имела, потому что в глазах Елены светилось материнское понимание и стремление развеять его печаль, и, безусловно, чувство материнской заботы заставляло ее щедро наполнять его тарелку.
Что-то в нем потянулось к ней, к ее исцеляющему материнскому сочувствию и вниманию, которые ни Энн, ни Лора, ни Тиффани не сумели ему дать.
Елена стояла рядом, собираясь забрать кофейную чашку, но Филип перехватил ее руку и осторожно прижал к своей щеке. Девушка вспыхнула, растерявшись, потому что неожиданно осознала свои недостатки. В простом хлопковом платье, с опаленной солнцем кожей, которую она считала безнадежно огрубевшей, она вряд ли могла сравниться с теми прекрасными, богатыми и утонченными дамами, среди которых должен был вращаться такой мужчина как Филип. Он хочет не любви, подумала она, совсем не этого… однако он чего-то хочет, в чем-то нуждается…

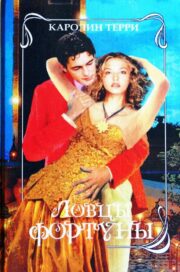
"Ловцы фортуны" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ловцы фортуны". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ловцы фортуны" друзьям в соцсетях.