По ночам, лежа в двухспальной кровати – мать ее была решительно против односпальных кроватей, – она прислушивалась к стрекоту цикад и отдаленным звукам автомобилей и тосковала по Джонни. Не столько по разговорам с ним – Джонни был неважным собеседником, сколько по тому, что его не было рядом с ней в этой огромной французской кровати. Он занимал мало места; это Ливи спала широко раскинувшись и все время беспокойно ворочалась во сне. У изголовья каждого стояла лампа, повернутая таким образом, чтобы не мешать тому, кто в данный момент ею не пользуется; иногда она, перелистывая свои журналы, показывала ему фасон нового платья и спрашивала: «Как оно тебе?», а он, склонив голову набок и поджав губы, отвечал: «Да, это именно то, что тебе нужно, Ливи» или «Мм-м-м... немного не то, а, как думаешь?» У Джонни была няня-англичанка, и его речь была пересыпана англицизмами. К примеру, читая журнал для автомобилистов и показывая Ливи фотографию той или иной легковой машины, он в упоении восклицал: «Конец света!» В эти минуты у него даже акцент был слегка английским.
Конечно, у нее остались дети, но у них тоже была своя няня, и тоже англичанка, к тому же ярая сторонница жесткого режима дня. Впервые за десять лет замужества время для Ливи стало мучением. Десять минут казались длиннее всех этих десяти лет. Куда же они ушли?
Теперь, просматривая газеты и журналы, которые она выписала для Джонни (Ливи не нашла в себе силы аннулировать подписку, они представлялись ей связующим звеном с прошлым, и ей не хотелось его обрывать), она вдруг поняла, что в мире происходила масса интересных событий: грандиозные политические перевороты, марши протеста, войны, перемирия, освободительные движения и, что совсем немаловажно, движение за эмансипацию женщин. Ее жизнь была сконцентрирована на семье, кружилась вокруг двух домов, Джонни, детей: голова ее была забита их уроками танцев, уроками верховой езды, посещениями педиатра. Много времени и разговоров ушло на то, чтобы выбрать самую лучшую школу, решить, нужны ли Джонни-младшему пластины для зубов или можно еще подождать? И была еще их яркая и разнообразная светская жизнь: коктейли, обеды, презентации, театральные премьеры, благотворительные балы, три раза в неделю ленчи у Ливи с ближайшими подружками и еще более интимные ленчи с сестрами, регулярные визиты в Филадельфию к одной бабушке и на каникулы в Вирджинию – к другой. При мысли о том, во что она превратилась, Ливи охватывала дрожь: теперь она ничто, статистка, женщина на подхвате; во всяком случае, станет таковой, когда снова появится в свете.
– Ты и так уж слишком долго отлеживаешься в своей берлоге, – практично заявила ее сестра Тони одним погожим вечером. – Пора снова вылезать на свет божий, возвращаться к реальности.
– Вот она, моя реальность, – Ливи обвела рукой зеленые газоны, с любовью возделанные лощины, озеро, деревья, цветы.
– Так оно и будет, если станешь и дальше хоронить себя здесь.
– Я не хороню себя. Но мне совершенно не хочется все это покидать.
– Боишься?
– Нет, мне просто неинтересно.
– Тебе необходимо как воздух, чтобы тобой заинтересовался какой-нибудь мужчина, естественно, после того, как кончится траур, – прибавила Тони, заметив, как изменилось лицо сестры.
– Никто никогда не сможет заменить мне Джонни.
– Что, такой здоровый был мужик? – невинно удивилась Тони, с улыбкой глядя на искаженное гримасой отвращения лицо Ливи. Про себя Тони всегда считала Джонни скорее прелестным подростком, чем взрослым мужчиной. Его жена, по-видимому, придерживалась иного мнения. Но все равно, и он, и она были сущими младенцами, скорее друзьями, чем любовниками. Ливи секс волновал мало, Джонни же, как полагала Тонни, до того как женился на ее сестре, был вообще внешне похож на кастрата. Но произвели же они на свет двух детей, значит, все-таки знали, что к чему! «Значит, тоскует она не по сексу, – думала теперь Тони, глядя на четкий, как на камее, профиль сестры. – Голову даю на отсечение, она и понятия не имеет, что это значит. Ей бы сейчас хорошего мужика, чтобы научил ее кое-чему».
Сама Тони, разведясь с первым мужем по причине его частых измен, умело скрыв при этом собственные и тем обеспечив себе солидную компенсацию, еще удачнее вышла замуж вторично и за два года этого брака получила больше удовольствий, чем за десять лет первого.
Именно этого Ливи недоставало. Удовольствий. Ей необходимо видеть новых людей. Она и Джонни всегда бывали только там, где встречались с людьми своего круга. У Тони же друзья были везде, на всех уровнях общества. Ливи необходима небольшая встряска. В мире многое теперь изменилось, и порой столь круто, что даже страшно об этом подумать. Теперь все дозволено – главное, чтобы были деньги, которыми все можно оплатить. У Тони деньги были, и она ничего не упускала. Нужно уговорить Ливи чуть-чуть изменить свои установки. Ей сейчас под тридцать, она все так же хороша собой и изящна. Какое расточительство, позволить этому шику и лоску уйти в безвестность. К тому же у нее куча денег. Джонни ушел из жизни, прекрасно ее обеспечив.
Несколько новых нарядов, может быть, небольшое путешествие, и как знать, каков будет исход? Об этом стоит подумать, решила она про себя, пока шофер вез ее обратно в Нью-Йорк. Должно же быть какое-то средство, способное расшевелить ее, хотя Ливи могла быть до чертиков упрямой. К счастью, не прошло и двух дней, как такой случай представился. Муж Корделии был назначен послом Соединенных Штатов при английском дворе и в течение двух недель должен был выехать в Великобританию, чтобы вручить свои верительные грамоты.
– Конечно, нужно обязательно взять Ливи в Лондон, – согласилась Делия, когда Тони сообщила ей о своих намерениях. – Ей надо выкарабкаться из своей скорлупы, повидать новых людей, себя показать. Муж настоящий англофил, он окончил Оксфорд и знает там почти всех. Я подберу из его списка знакомых самых подходящих и самых стоящих кандидатов. Мы обе знаем, какая Ливи привередливая. Дай нам немного обжиться в посольстве, а потом я организую парочку коктейлей и званых обедов.
– Сначала мне нужно будет уговорить Ливи, а потом выяснить, сумеет ли мама приехать из Филадельфии, чтобы присмотреть за детьми.
– Еще как сумеет, – сухо отрезала Делия.
Тони начала свою кампанию с того, что попросила Ливи помочь ей подобрать гардероб для поездки в Европу.
– У тебя такой хороший вкус, – сказала она вполне искренне. – Мне очень нужен твой совет и рекомендации.
Так как Ливи обожала наряды, она согласилась и впервые за несколько месяцев поехала в Нью-Йорк, где остановилась у сестры в «Саттон плейс» и вместе с ней отправилась к любимому модельеру Тони. В отличие от своих сестер, Тони была в мать – небольшого роста, с короткими пухлыми ручками и ножками. Сложением она напоминала зобастого голубя, но обладала грудью, сыгравшей не последнюю роль в ее многочисленных сексуальных победах, и задницей, один вид которой неизменно высекал в глазах мужчин плотоядный огонь. Великосветские наряды Ливи ей явно не подходили, такие одежды тряпками свисали с ее «сисек и жопы» (как она сама любила говаривать, но не в присутствии матери).
Тони устроила так, что на примерку ей приносили платья и костюмы, которые она называла «класс Ливи» и от которых она вынуждена была отказываться с притворным сожалением:
– Увы, это не для меня. На моей сестре они выглядели бы великолепно, но только не на мне. – И затем как бы вскользь просила: – Это скорее по твоей части, Ливи. Ну-ка, примерь, посмотрим, подойдет ли платье тебе...
И как всегда, оно выглядело на ней потрясающе.
– На госпоже Рэндольф любая одежда смотрится великолепно, – говорил портной, восхищаясь не только изысканной худощавостью Ливи, и даже не столько ею, сколько тем, как одежда на ней обретает изящество и шик.
Ливи даже помогала улучшить первоначальную модель, чуть сдвигая в сторону линию шеи, что делало элегантную вещь еще более изысканной, подвязывая пояс определенным образом и получая потрясающий результат, оставляя незастегнутой одну пуговицу и этой почти незаметной переменой придавая всему ансамблю нечто совершенно необъяснимое. Она была первой женщиной, решившейся носить темно-синюю рубашку с нефритово-зелеными брюками, розовую шелковую блузку – с дамским костюмом из грубой красной шерсти.
Туфли ее – размер 9АА – всегда были безупречными, равно как и ее сумочка и перчатки. Она редко носила шляпы – волосы ее всегда были безукоризненно уложены, но если их надевала, то выглядела она на ней настолько впечатляюще, что ни одна женщина не могла бы это скопировать. Она брала несколько меховых шкурок и так располагала вокруг шеи и плеч, что было бесполезно пытаться повторить нечто подобное, а когда заказала себе серый брючный костюм и надела под него белую, кашемировой шерсти водолазку, то фактически положила начало новой моде.
Примерочная сделалась средоточием ее жизни, ее сценической уборной, где она примеряла, браковала, изменяла, улучшала и заменяла предлагаемые модели одежды. У модельера хватило ума заметить, что то, что она творила с его моделями, шло им только на пользу, совершенствуя первоначальный замысел, и потому он позволял распоряжаться так, как ей заблагорассудится. Порой та или иная поправка к первоначальной модели граничила с гениальностью. Как, например, белая вставка из крепа с уходящей диагонально вниз линией шеи, к основанию которой она прикрепила круг в форме лепестков розы, каждый из которых был изготовлен из цельного рубина.
– Дорогая моя, ты непременно должна поехать со мной в это путешествие и предстать в обществе во всех этих нарядах! – воскликнула Тони, как будто эта мысль только сейчас пришла ей в голову.
– Не уверена, что мне уже можно носить яркие цвета... – скромно опустила глаза Ливи.
– Господи, на дворе 1966 год, а не 1866-й! – возразила Тони. – Ну прямо как в доброй, старой Вирджинии.
– Но ведь прошло всего только три месяца.
– Три с половиной, а когда отправимся в путешествие, будет уже и все четыре. Даже члены королевской семьи не носят траур так долго!
Но Ливи была упрямой, к тому же обязана была считаться с мнением своей свекрови, поэтому выбрала наряды либо черного, либо черно-белого цвета. Этот вариант еще не завершенного траура по умершему производил неожиданно ошеломляющее впечатление.
Они отправились в путешествие на океанском лайнере «Юнайтед Стэйтс», и их первой остановкой был Париж, где были куплены новые наряды и где Ливи появлялась в сопровождении нескольких особо избранных французов, что стало причиной злобного зубовного скрежета ее завистников. Из Парижа они поехали в Рим, из Рима отправились на Ривьеру, где за Ливи стал ухаживать обедневший, но очень импозантный венгерский граф, сумевший рассмешить ее и забросать поэтическими комплиментами. Внимание мужчин было словно целительный бальзам для ее души: она уже начала было забывать, что это такое. Теперь же она весело сидела с Тони, курила и сравнивала ее наблюдения со своими и убеждала ее, что пока никто из мужчин не заслуживает большего, чем мимолетного флирта.
– Может быть, когда приедем в Лондон... – в конце концов решила она.
Приехала она туда приятно уставшая, но в возбужденно-радостном состоянии от своего головокружительного успеха. Ей-то казалось, что все будет по-другому, что она окажется «лишней женщиной», то есть женщиной без мужчины. Не раз доводилось ей слышать о таких женщинах, в основном от тех, чьи мужья стали объектами далеко идущих планов какой-нибудь бывшей «ближайшей подруги», теперь рассматриваемой как опасный и заклятый враг, и все потому, что она была одинокой, свободной. Ливи еще ни разу не сталкивалась даже с намеками на враждебное к себе отношение, но когда она вскользь заметила об этом Тони, та, задумчиво поглядев на нее, сказала:
– Это Европа, дорогуша. Здесь все немного по-другому. Погоди, вот приедешь домой, станешь вращаться в обществе...
Но истинное положение дел Ливи удалось выяснить задолго до этого.
Во время роскошного приема в «Уинфилд хаус» Ливи веселилась от души, танцевала, сплетничала, пила шампанское, как вдруг ее взгляд, бегло озирающий залу, привлекла парочка, стоявшая в тени и не замечавшая ничего и никого вокруг себя. Оба были молоды, на добрых десять лет моложе Ливи и Джонни, но что-то в них, в том, как они стояли, тесно прижавшись друг к другу, как смотрели друг другу в глаза, как улыбались чему-то, понятному только им одним, живо напомнило Ливи ее саму и умершего мужа, и напоминание это острой болью отдалось в сердце. Волна печали смыла всю ее веселость, и привычное удушливое чувство отчаяния, с которым, как ей казалось, она уже распростилась навсегда, вновь замаячило перед ней, словно явившийся на пир мертвец, вставший из гроба. Она побоялась, что может сейчас разреветься на виду у всех, нарушив все правила поведения, внушенные матерью. Отставив бокал шампанского и не привлекая внимания, как бы не имея перед собой определенной цели – этому движению Миллисент Гэйлорд успешно научила ее много лет назад, – она потихоньку начала незаметно выбираться со своего места, чтобы затем поспешить наверх и спрятаться там, где ее наверняка никто не потревожит: в доме Корделии это была роскошная ванная с примыкающей к ней комнатой для переодевания, которой гости никогда не пользовались. Там она сможет дать выход своему отчаянию. Но когда Ливи повернула инкрустированную радужную дверную ручку и уже готова была броситься на кожаный массажный стол Корделии, она почувствовала, что в темной комнате для переодевания она не одна.

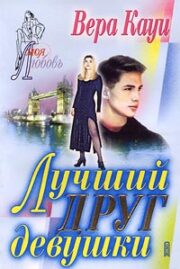
"Лучший друг девушки" отзывы
Отзывы читателей о книге "Лучший друг девушки". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Лучший друг девушки" друзьям в соцсетях.