Почему он все это рассказывал Лере? Его словно прорвало.
Она догадывалась, она была почти уверена, что это с ним впервые. Позже она узнает, что не ошибалась.
Гарри-отец родился в Литве, на два года раньше Леры. Его родители — педагоги на пенсии и живут в Паланге, у моря.
Они воспитывали единственного сына в строгости, почти в аскетизме. Он не знал родительской ласки — их дом был царством жестких правил и бесконечных требований, исполняя которые ты всего лишь избегал наказания, а не заслуживал награду. И только бабушка давала ему тепло, так необходимое ребенку. Гарри звал ее Мочуте-Солуте — Бабушка-Солнышко.
Она умерла, когда Гарри было пятнадцать лет.
— Странное совпадение с судьбой сына, — сказал он.
Он чувствовал себя брошенным, не нужным никому: вечно занятые родители считали сына вполне самостоятельным и не нуждающимся в их внимании. Он хорошо учился и увлекался историей — еще с бабушкиных рассказов о незапамятных временах и своих предках. Гарри с головой ушел в книги. У него не было близких друзей, он не влюблялся в девчонок.
После школы Гарри поступил в Вильнюсский университет, разумеется на исторический.
Он до сих пор не помнит, как оказался на представлении Ленинградского цирка, да еще в первом ряду…
Он восемь раз ходил на это представление. А потом поехал в Каунас и там купил билеты на все сеансы сразу. Он влюбился в акробатку.
— Нет, пожалуй, не влюбился. Я просто помрачился рассудком. Я не видел никого, кроме нее. Не мог ни о чем думать, кроме нее. Я пытался встретиться с ней, но меня прогоняли.
Только в Каунасе сердобольный клоун, которого он выловил на улице, согласился передать ей письмо.
Она вышла к нему после спектакля в условленное место. Он сказал: «Я люблю тебя». Она засмеялась: «И что дальше?» Он снова повторил: «Я люблю тебя».
Она была уже взрослой, ей было двадцать четыре, ему — девятнадцать.
Еще одно совпадение, добавил Гарри.
Она сказала: «Ладно. Покажи мне город». Они гуляли до утра по осеннему Каунасу.
Назавтра был последний день гастролей — цирк возвращался в Ленинград.
Прощаясь, она поцеловала Гарри, как целуют зрелые женщины, и во второй раз посмеялась над ним. Он сказал: «Это ничего не значит. Я научусь. Зато я люблю тебя».
Он вернулся в Вильнюс, забрал документы из университета и поехал в Ленинград.
Было начало учебного года. Он был подающим надежды студентом — его работы уже на втором курсе печатали в специальных журналах. Он был настойчив, три раза беседовал с ректором. Его приняли в Ленинградский университет вопреки всяческим правилам и дали общежитие.
Только тогда — встав на обе ноги на землю Ленинграда — он пошел искать свою возлюбленную, которая вела его, как путеводная звезда. Нет, как рок.
Когда она вышла с репетиции, не догадываясь, кто ее спрашивает, и увидела Гарри, она расхохоталась, но подошла к нему и обняла. Он, не говоря ни слова, поцеловал ее в губы. Она не смеялась больше. «Быстро ты научился». Он сказал: «Я очень способный, и я люблю тебя».
— Мы жили, вцепившись друг в друга. Мы обнимались ночью, а утром с болью разрывали объятия. Мы жили словно над жизнью. Имел значение только тот миг, когда мы встречались поздно вечером в нашей квартире. Все, что оставалось за ее стенами, переставало существовать. Все теряло смысл, кроме нашей любви… — Гарри помолчал и добавил: — Лишь через много лет я понял, что любовь и страсть — совершенно разные вещи. То была страсть. А страсть — это разрушение… Даже любовная страсть — это разрушение. Созидает только любовь…
Он успешно учился. Много работал. Ему прочили будущее ученого мирового масштаба. Параллельно с историческим он оканчивал лингвистический факультет.
Через три года жена родила сына. Она назвала его именем отца — других вариантов просто не рассматривалось.
Через месяц начался ад. Жена сидела дома с ребенком и требовала постоянного присутствия Гарри, словно забыв о существовании учебы, работы. Она не переносила, когда муж сидел за письменным столом, и находила тысячу предлогов, чтобы отвлечь его. Он стал работать в читалке, домой приходил к ночи и вынужден был порой до утра отражать ее нападки и утирать слезы. Он объяснял, увещевал, старался сделать все возможное ей в помощь, но скандалы не прекращались. Она требовала его безраздельного внимания, всего его времени без остатка.
Когда сыну исполнилось полгода, жена вернулась к репетициям, а жизнь — к прежнему ритму: до ночи работа, ночь вдвоем, расставание утром в ожидании ночи. Но в отношениях появилась трещина: столкнувшись с тем, о чем она раньше имела лишь абстрактное представление, жена взревновала мужа к науке.
— Прямо история Скотта и Зельды… — сказала Лера.
— Я тоже их вспоминал… Но у того было слабое место, у меня же не было других пристрастий, кроме работы. Меня невозможно было поколебать. — Гарри помолчал, потом усмехнулся: — Как во мне умещались две эти громадины — страсть к женщине и страсть к науке?.. Думаю, дедушка Фрейд почесал бы в затылке.
Сын рос в обстановке передовой: то смертельные бои, то перемирие. Матери он служил орудием борьбы за внимание отца, а во время коротких передышек был помехой в отношениях с мужем.
Те редкие часы, которые отец пытался посвятить сыну, мать превращала в кошмар выяснения отношений.
Нарочно ли или не осознавая, она не позволяла им сблизиться, желая оставаться единственной и для одного, и для другого. Разделяй и властвуй — это был ее принцип. Что она внушала ребенку наедине, можно было лишь догадываться. В конце концов сын стал шарахаться от отца и прильнул к обиженной половине.
Гарри-старший приобретал известность и положение в научном мире. Появился материальный достаток. Они купили вот этот дом, но жена не любила его, поскольку в нем всюду были следы ее главной и единственной соперницы — работы мужа. А Гарри все чаще уединялся тут.
Проходило время — сначала оно исчислялось днями, — и страсть брала верх над обоими. Они соединялись в бурном порыве, прощали друг другу все, и на месяц-другой воцарялась идиллия.
Потом все больше времени требовалось, чтобы разжечь огонь, все меньше становилось пламя, и все скорее оно затухало.
Однажды, в период очередной разлуки, когда Гарри жил за городом, жена нашла его в университете и объявила, что изменила ему.
Он сказал: «Хорошо». Повернулся и пошел.
Она бросилась за ним и, ожидая иной реакции, повторяла ему это снова и снова.
Он остановился, взял ее за плечи и сказал: «Я слышал. Ты свободна».
Она сказала: «Я не хочу быть свободна».
Он усмехнулся и сказал: «Я не силен в женской логике. По моим понятиям, все кончено».
Она еще долго бежала вслед, но он не остановился.
В тот же вечер, пока она была на работе, он собрал свои вещи в городской квартире и ушел оттуда навсегда.
Атаки продолжались. Она делала набеги на загородный дом, умоляла, угрожала, соблазняла. Она стала одержимой, когда через полгода поняла, что это конец, что Гарри для нее больше не существует. Она устраивала безобразные сцены в университетских коридорах. Она, забравшись в дом, выкрадывала и уничтожала рукописи его трудов.
Он был непреклонен. Он жалел ее умом, но не испытывал никаких чувств. Он понимал, что все оборвалось, и уже очень давно.
Она покончила с собой так же отвратительно, как вела себя. А чтобы досадить мужу, последний удар она нанесла по сыну, сделав его зрителем своего финального спектакля.
Ему было пятнадцать. Он начал заикаться.
В шестнадцать при получении паспорта он изменил свои отчество и фамилию на дедовы — отца матери.
Прошло время. Сын кое-что понял. Большую роль сыграли в его прозрении, как это ни странно, родители жены, которые, по сути, воспитывали его с детства и теперь взяли опеку над ним. Они постепенно наладили его отношения с отцом.
— Но дружбы между нами не было. Гарри не впускал меня в свою жизнь, и моя его не интересовала… Детские раны вечны — они могут лишь затянуться, но не зажить. А мы оба были ранены в детстве… И наш нежный возраст прошел в напряженной душевной борьбе. Мы постоянно стояли перед выбором — между чувством долга и желанием любви. В пятнадцать мы потеряли душевную опору — самых близких людей…
Гарри отпил вина и долго смотрел на огонь. Лере даже показалось, что он забыл о ее присутствии.
А у нее сжималось сердце, и так хотелось что-нибудь сказать или сделать, чтобы дать понять этому человеку, что ей не безразличны его переживания… Но она не осмеливалась, зная, что многих унижает сочувствие. Почему — этого она не понимала.
— На кого похожа ваша сестра — на мать или на отца? — неожиданно спросил Гарри.
— На прадеда. Но вообще — на папу. А что?
— Есть якобы такое правило: если дочь похожа на отца, а сын — на мать, будут счастливыми. И наоборот.
— Наша Катька вне всяких правил… Но над этим можно подумать. Что еще под счастьем-то понимать?..
— А что вы понимаете? Вы можете сказать, что такое счастье? — Гарри оживился, как ученый, попавший в родную стихию поиска.
— Я?.. Я совсем недавно задумалась над тем, что такое любовь. А вот что такое счастье… это мне в голову не приходило.
— Думаю, это означает, что вы, как минимум, не несчастны. И что же — любовь? Что вы придумали по этому поводу?
— Пока ничего конкретного…
— А вы, простите за нескромный вопрос, любили?.. Или — любите?..
— Вы имеете в виду любовь к мужчине?
— Ну вы же рассуждали, полагаю, не о любви к цветам?
— Вообще-то я рассуждала о любви касательно отношений моей сестры со своим возлюбленным. Но сейчас мне пришло в голову, что любовь — понятие гораздо более широкое, чем просто какой-то частный ее случай: любовь к мужу, любовь к маме, любовь к кошке… Все эти виды связаны… переплетены… Даже не так — у них должен быть один корень. А если его нет, не получится даже любви к цветам.
— Браво! Я впервые слышу такие рассуждения…
— …От женщины, хотите сказать?
— И это тоже… — усмехнулся Гарри. — Но прежде — сама идея. Между прочим, не подумайте, что я стал женоненавистником, я просто закрыл для себя женский вопрос… Замечу — на удивление безболезненно.
— И пошли по дорожке, проторенной дедушкой Фрейдом. То-то он радуется, глядя на вас.
— Еще раз браво! — Он стал похож на азартного юношу.
Лера приятно удивилась этим переменам. За несколько дней их знакомства у нее сложилось представление о Гарри как о человеке суровом, нелюдимом и молчуне. Она даже представить себе не могла, что он умеет улыбаться.
«Конечно, — спохватилась она, — при тех обстоятельствах, которые нас свели… Ему тоже, поди, мой смех не снился…»
— Вы замяли ответ на мой вопрос потому, что он нескромный?
— Любила ли я?
— Да.
— Я обязана вам той же откровенностью?..
Гарри смутился, закрыл лицо руками, как тогда, в клинике, и замотал головой:
— Нет-нет-нет, простите… Простите.
— Нет, это вы простите меня. — Лера смутилась.
Она поняла свою невольную бестактность слишком поздно, она не хотела этого. Похоже, подсознание — вовсе не эфемерная вещь. До сих пор у нее не было случая вот так вживую с ним столкнуться. Защита больной темы, которую Лера не осознавала не то что как больную, а как просто тему. Достославный дедушка знал, о чем говорил…
Гарри открыл лицо. Оно было прежним — ни отсвета того возбуждения, которое овладело им в разговоре.
Лера протянула руку и коснулась его запястья. Он, словно очнувшись, вскинул на нее глаза.
— Простите меня, — сказала Лера.
— Ну что вы! Это вы простите меня. — И он уставился на огонь невидящим взглядом.
— Вы готовы меня слушать?
— Да, конечно. — Голос Гарри был пустым, как и его взгляд.
«Что ж, замечательно. У меня есть возможность порассуждать о том, о чем я даже наедине с собой не решалась задумываться. Пожалуй, это будет откровение похлеще того, которое довелось услышать мне», — подумала Лера.
— Только не уходите от меня. Мне нужна живая душа.
Гарри повернулся к ней лицом:
— Нет-нет, я тут. Я слушаю.
— Я росла в любви. — Лера опустила глаза, смутившись, словно призналась умирающему от голода, что она объелась и ей плохо. — Любовь была растворена в воздухе. Все вокруг любили друг друга: мама с папой, их родители, многочисленные тетушки и дядюшки, их дети — все друг друга любили.

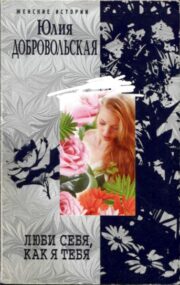
"Люби себя, как я тебя" отзывы
Отзывы читателей о книге "Люби себя, как я тебя". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Люби себя, как я тебя" друзьям в соцсетях.