– Я чувствую, что меня влечет к тебе. – Он говорит очень медленно, как будто взвешивает каждую букву в каждом слове. – О моих воспоминаниях, вкусах, привычках ты могла узнать, например, от кого-то или из моих книг, в которых много личного. Ты видела фотографию в медальоне Бэа, ты бывала на моих докладах, ты читала мои статьи. Где доказательства того, что всему виной переливание крови? Как я могу быть уверен – только не обижайся, – что ты не шизофреничка, помешавшаяся на какой-то идиотской истории, которую прочла в книге или увидела в кино?
Я вздыхаю. Доводы мои исчерпаны.
– Джастин, я утратила всякую веру, но в это я верю.
– Прости, Джойс. – Он явно готовится закругляться.
– Нет, подожди. Это что, все?
Тишина.
– Ты что, даже не попробуешь поверить мне?
Он глубоко вздыхает:
– Я представлял тебя другой, Джойс. Не знаю почему, но мне казалось, что ты другой человек. А тут что-то… невообразимое. Какая-то… не та Джойс.
Каждая фраза – удар ножом в сердце и удар кулаком в живот.
– Судя по всему, тебе много пришлось пережить, может быть, ты должна… с кем-то поговорить.
– Почему ты мне не веришь? Пожалуйста, Джастин. Есть же что-то такое, что должно тебя убедить! Какая-то известная мне тайна, о которой ты не писал в статьях и не распространялся на лекции… – Я умолкаю, думая кое о чем. Нет, я не могу это использовать.
– До свидания, Джойс. Надеюсь, у тебя все будет хорошо, правда.
– Постой! Подожди! Есть одна вещь. Одна вещь, которую только ты можешь знать.
Он медлит:
– Какая еще вещь?
Я зажмуриваюсь и глубоко вдыхаю. Сказать или не сказать? Я открываю глаза и выпаливаю:
– Твой отец.
Воцаряется тишина.
– Джастин?
– Что мой отец? – Его голос холоден как лед.
– Я знаю, что ты видел, – тихо говорю я. – Что ты никому не осмелился рассказать.
– О чем, черт возьми, ты говоришь?
– Я знаю, что ты был на лестнице, видел его через перила. Я его тоже вижу. Я вижу, как он с бутылкой и таблетками скрывается за дверью. Потом зеленые ноги на полу…
– Прекрати! – кричит он, и я пораженно замолкаю.
Но я понимаю, что у меня никогда больше не будет возможности произнести эти слова.
– Я знаю, как трудно тебе было в детстве. Как трудно было держать это в себе…
– Ты ничего не знаешь, – холодно произносит он. – Абсолютно ничего. Пожалуйста, держись от меня подальше.
– Хорошо, – шепчу я, но, кроме меня, этого не слышит никто, потому что он уже повесил трубку.
Я сижу на лестнице в темном пустом доме и слушаю, как холодный октябрьский ветер сотрясает оконные рамы.
Итак, это конец.
Месяц спустя
Глава сорок третья
В следующий раз мы должны поехать на машине, Грейси, – говорит папа, когда мы возвращаемся пешком с прогулки по Ботаническому саду. Я держу его под руку и покачиваюсь вместе с ним – влево-вправо, влево-вправо. Это действует на меня успокаивающе.
– Нет, папа, тебе нужно больше двигаться.
– Говори за себя, – бормочет он. – Как дела, Шон? Ужасный день, правда?! – кричит он через дорогу старику на ходунках.
– Кошмарный! – кричит Шон в ответ.
– Так что ты думаешь о квартире? – за последние несколько минут я уже в третий раз задаю этот вопрос. – Говори, не увиливай.
– Я ни от чего не увиливаю, дорогая. Как дела, Пэтси? Как дела, Сьюки? – Он останавливается и наклоняется, чтобы погладить таксу. – Что за милашка! – говорит он, и мы идем дальше. – Ненавижу эту сосиску. Лает всю ночь напролет, – брюзжит он, натягивая кепку почти на самые глаза, чтобы укрыться от сильного порыва ветра. – Боже милостивый, мы хоть немного продвигаемся вперед? При таком ветре я чувствую себя старой скрипучей метлой.
– Не метлой, а ветлой, – смеюсь я. – Так что, тебе понравилась квартира или нет?
– Я не уверен. Какая-то тесная, и жилец в соседней квартире странный. Вид у него подозрительный.
– А мне он показался очень симпатичным.
– Ну разумеется, он тебе показался симпатичным! – Папа закатывает глаза и качает головой. – Сейчас для тебя любой мужчина – душка!
– Папа! – смеюсь я.
– Доброе утро, Грэхем. Ужасный день, правда? – говорит он, проходящему мимо соседу.
– Отвратительный день, Генри, – отвечает Грэхем, засовывая руки в карманы.
– В общем, я не думаю, что эта квартира тебе подойдет, Грейси. Поживи еще немного тут, пока не подвернется что-нибудь более сносное. Незачем бросаться на первое попавшееся.
– Папа, мы посмотрели десять квартир, и тебе ни одна из них не понравилась.
– Для кого мы ищем жилье – для тебя или для меня? – спрашивает он. Влево-вправо, влево-вправо.
– Для меня.
– Так какая тебе тогда разница?
– Я ценю твое мнение.
– Но остаешься при своем… Привет, Кейтлин!
– Ну ты же не можешь вечно удерживать меня при себе!
– Вечно – это еще слабо сказано. Ты все сроки пересидела в родительском доме.
– Можно я сегодня пойду в клуб?
– Опять?
– Мне нужно закончить шахматную партию, которую мы начали с Ларри.
– Ларри заставляет тебя нагибаться над доской, чтобы заглядывать тебе в вырез. Эта партия никогда не закончится. – Папа закатывает глаза.
– Папа!
– Что «папа»? Просто ты должна найти себе компанию получше, чем мы с Ларри.
– А мне с вами нравится!
Он ухмыляется, довольный услышанным.
Мы поворачиваем к дому и, покачиваясь, идем по узкой садовой дорожке к входной двери.
То, что я вижу перед дверью, повергает меня в ступор.
Маленькая корзинка с маффинами, покрытая полиэтиленовой пленкой и перевязанная розовой лентой. Я смотрю на папу, который как ни в чем не бывало переступает через корзинку и отпирает дверь. Его поведение заставляет меня усомниться в остроте моего зрения. Мне что, это мерещится?
– Папа! – Я в шоке оглядываюсь, но позади меня никого нет.
Папа подмигивает мне, на мгновение грустнеет, потом широко улыбается и захлопывает дверь у меня перед носом.
Я беру конверт, приклеенный к пленке, и дрожащими пальцами достаю из него карточку.
Спасибо
– Прости меня, Джойс, – раздается за спиной голос, от которого мое сердце чуть не останавливается.
Я оборачиваюсь.
Это он – стоит у садовой калитки, в руках, упрятанных в перчатки, букет цветов, на лице самое извиняющееся выражение. На нем зимнее пальто и шарф, кончик носа и щеки раскраснелись от холода, глаза сияют зеленым огнем. От одного его вида у меня захватывает дух, его близость ко мне почти невыносима.
– Джастин… – Ничего больше я вымолвить не могу.
– Как тебе кажется, ты могла бы простить такого идиота, как я? – Он делает шаг мне навстречу.
Я не знаю, что сказать. Прошел месяц. Почему сейчас?
– Ты тогда разбередила старую рану, – говорит он, откашливаясь. – Как ушел из жизни отец, извест-но только мне. Было известно только мне. Не представляю, как ты об этом узнала.
– Я объяснила тебе как.
– Мне это непонятно.
– Мне тоже.
– Но мне непонятны и самые, казалось бы, обыкновенные вещи. Мне непонятно, что моя дочь видит в своем парне. Мне непонятно, как Дорис умудряется открывать пакет молока с такими длинными ногтями. Мне непонятно, почему я не ворвался к тебе месяц назад и не излил то, что чувствую…
Я разглядываю его лицо, завитки волос, выбившиеся из-под теплой шапки, виноватую улыбку. Он в свою очередь изучающе смотрит на меня, и я дрожу, но не от холода. Холода я не ощущаю. Лично для меня наступило лето. Экая красота! Спасибо тебе, господи!
Он хмурится.
– Что случилось?
– Ничего. Просто сейчас ты мне кое-кого напомнила. Это не важно. – Он улыбается и прокашливается, готовясь продолжить с того места, на котором остановился.
– Элоиз Паркер, – угадываю я, и его улыбка меркнет.
– Откуда, черт возьми?..
– Она жила по соседству с тобой, и ты ее обожал. Когда тебе было пять лет, ты нарвал цветов в родительском саду и понес их ей. Когда ты подбегал к ее дому, она вышла на улицу в голубой куртке и черном шарфе, – говорю я, сильнее кутаясь в свою голубую куртку.
– А потом что было? – пораженно спрашивает он.
– А потом ничего, – пожимаю плечами я. – Ты бросил цветы на землю и убежал.
Он медленно качает головой и улыбается:
– Но как?..
Я пожимаю плечами.
– Что еще тебе известно про Элоиз Паркер? – спрашивает он с прищуром.
Я улыбаюсь и отвожу взгляд:
– В шестнадцать лет ты потерял девственность, переспав с ней. Это произошло у нее в спальне, когда ее родители уехали в отпуск.
Он округляет глаза и опускает цветы головками вниз:
– Вот это уже недопустимо. Такого ты знать про меня не должна.
Я смеюсь.
И тут он наносит ответный удар:
– При крещении тебе дали имя Джойс Бриджет Конвей, но ты уверяешь всех, что твое второе имя Анжелина.
От удивления я ахаю.
– В детстве у тебя была собака по имени Зайчик. – Он самодовольно поднимает бровь.
Я прищуриваюсь.
– Ты перебрала виски, когда тебе было… – Он закрывает глаза и напряженно думает. – Пятнадцать. Вместе со своими подругами Кейт и Фрэнки.
Выдавая очередную порцию информации, он делает шаг вперед, и этот запах, его запах, который я мечтала вдыхать, становится все ощутимей и ощутимей.
– Ты впервые поцеловалась по-взрослому с Джейсоном Харди по прозвищу Джейсон Эрекция, когда тебе было десять лет.
Я хохочу.
– Вот видишь, и мне известны кое-какие твои интимные тайны.
Он стоит уже вплотную ко мне. Я ощущаю прикосновение его ботинок, грубой ткани его толстого пальто.
Мое сердце начинает выделывать сальто-мортале. Я надеюсь, Джастин не слышит, как оно кричит от радости.
– Кто рассказал тебе все это? – Мои слова облачком холодного пара касаются его лица.
– Моему прибытию сюда предшествовал грандиозный искус, – улыбается он. – Грандиозный. Твои подруги долго испытывали меня, желая убедиться, что раскаяние мое действительно искренне.
Я улыбаюсь, пораженная тем, что Фрэнки и Кейт наконец-то смогли хоть о чем-то договориться и вдобавок удержать свой заговор в секрете.
Тишина. Мы стоим так близко друг к другу, что, если я подниму голову, мой нос коснется его подбородка. Я продолжаю смотреть вниз.
– Ты все еще боишься спать в темноте, – шепчет он, беря меня за подбородок и поднимая его, чтобы видеть мое лицо, – если рядом с тобой никого нет, – добавляет он с нежной улыбкой.
– Ты списывал на своем первом экзамене в колледже, – шепчу я.
– Ты раньше ненавидела искусство. – Он целует меня в лоб.
– Ты лукавишь, уверяя всех, что тебе нравится «Мона Лиза». – Я закрываю глаза.
– В раннем детстве у тебя был друг-невидимка по имени Горацио, – шепчет Джастин, чмокая меня в нос.
Я собираюсь ответить, но тут его губы так нежно касаются моих, что слова замирают у меня в горле и мгновенно ускользают назад, в тот отсек сознания, откуда пришли.
Я вижу, будто сквозь дымку, как Фрэн выходит из своего дома, как мимо, сигналя, проезжает машина, но это все где-то далеко-далеко. Я полностью отдаюсь своим ощущениям, стараясь сохранить этот момент в памяти – для Джастина, для себя.
– Прощаешь меня? – спрашивает он, отстраняясь.
– А как же иначе? Против крови не пойдешь, – улыбаюсь я, и он смеется. Я смотрю на зажатые между нами цветы. – Не собираешься ли ты бросить их и убежать?
– Вообще-то они не для тебя. – Его щеки краснеют еще сильнее. – Они для одной женщины в Центре переливания крови, перед которой мне очень нужно извиниться. Я надеялся, что ты пойдешь со мной, поможешь объяснить ей мое дикое поведение, и, возможно, она в свою очередь сумеет нам кое-что объяснить.
Обернувшись, я смотрю на дом и вижу папу, подглядывающего из-за занавески. Я вопросительно смотрю на него. Он вскидывает два больших пальца, и на глаза мне опять наворачиваются слезы.
– Он тоже участвовал в заговоре?
– Он назвал меня безмозглым охламоном, – забавно скривившись, отвечает Джастин.
Прежде чем направиться к калитке, я посылаю папе воздушный поцелуй. Провожаемая его – и маминым – взглядом, я иду по садовой дорожке, срезаю угол по траве и выхожу на дорогу, ведущую прочь от дома, в котором я выросла.
Только на этот раз я не одна.

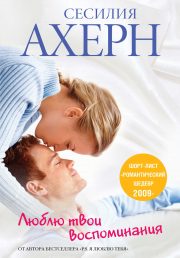
"Люблю твои воспоминания" отзывы
Отзывы читателей о книге "Люблю твои воспоминания". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Люблю твои воспоминания" друзьям в соцсетях.