Симба решила, что не хочет быть рыболовным крючком, и выпрямила ноги.
Пляж стал шире, нависающая справа скала закрыла собой полнеба — по крайней мере, так показалось маленькой Симбе.
Отец молчал, хотя обещал кое–что рассказать.
— Папа, — напомнила она, — ты хотел…
— Что? — спросил отец.
— Про бабочек, — сказала Симба, — про тех, которых надо бояться, и тех, которых не надо…
— Их вообще не надо бояться, — сказал отец. — Они все красивые и безобидные…
— Нет, — возразила Симба, — не все, ты сам мне говорил, там, наверху!
— Хорошо, — сказал отец, — сейчас расскажу…
Симба повернулась на спину и посмотрела в потолок.
Обыкновенный потолок с красно–синим плафоном посередине.
Если щёлкнуть выключателем, в плафоне загорится лампочка.
— Надо спать! — громко сказала себе Симба и начала медленно считать: — Раз… Два… Три…
— Помнишь нашу гору? — спросил отец.
— Какую? — заинтересованно спросила Симба.
— Ну, нашу… — сказал отец. — Там, дома…
— Помню, — сказала Симба, вспомнив гору, которая нависала над их городом.
— Так вот, — сказал отец, — я сам не видел, но говорят, что на вершине горы, в лесу, живут совершенно особенные бабочки…
— Как эти, на берегу? — спросила Симба.
— Нет, — ответил отец, — они большие, размером с футбольный мяч…
— Больше моей головы? — спросила Симба.
— Да, больше! — сказал отец.
— Четыре… Пять… Шесть… — говорила вслух Симба, всё так же глядя в потолок. Она перестала считать и подумала, что лучше перевернуться на живот и обнять подушку.
Обнять подушку и уткнуться в нее лицом.
Уткнуться в нее лицом и зареветь.
Дурацкая ночь, всё полный бред, и ещё эта жара.
И племянник, который явится вечером.
Она повернулась на живот, обняла подушку и заплакала.
Тихо, жалобно поскуливая.
И поняла, что начинает засыпать.
Наконец–то засыпает, уткнувшись в мокрую от слёз подушку.
— Они больше твоей головы, — сказал отец, — и даже больше моей. И ещё — говорят, что они умеют петь!
— Как это? — спросила Симба. — Как птицы?
— Не знаю, — ответил отец, — но говорят, что они умеют петь…
— Я боюсь! — пожаловалась Симба.
— Ты не бойся, — успокоил её отец, — мало ли что говорят…
— А что будет, если их услышишь? — спросила Симба.
— Кто говорит — счастье, — сказал отец, — а кто–то, наоборот, что конец света…
— Это как? — спросила Симба.
— Что — как? — переспросил отец.
— Конец света… — очень тихо проговорила Симба.
Она уснула, и самое замечательное, что ей ничего не снилось.
Симба спала на животе, яростно обнимая подушку.
Потом она отпустила её и повернулась на бок.
Но уже во сне, и поэтому ей было всё равно, на что она сейчас похожа.
Пусть даже на рыболовный крючок — плевать.
За окном начало светать, солнце выкатилось из–за горы, сосновый лес стал бледно–розовый, какой–то игрушечный.
— Это — когда ничего не будет, — сказал отец, — никого и ничего…
— Я боюсь! — повторила Симба.
— Не бойся, — опять успокоил её отец, — считай, что это просто сказка… А бабочки–мутанты…
— Что такое мутанты? — спросила Симба.
— Это когда вместо одного существа на земле появляется совсем другое, — объяснил отец, — под влиянием радиации или чего–то ещё, слишком яркого солнца, к примеру…
— А что такое радиация? — спросила Симба.
— Это долго объяснять, — сказал отец, — ты не поймёшь, маленькая…
— Хочу мороженого! — сказала Симба, увидев, что они уже почти пришли.
— Хорошо, — сказал отец, — сейчас куплю, а дома сразу — спать, ты очень устала!
Она съела мороженое по дороге к тому хлипкому строеньицу, которое отец назвал домом, послушно вымыла ноги, почистила зубы и залезла в постель.
Перед сном отец вышел покурить под большим, старым, угрюмым сливовым деревом, что росло у порога, а Симба закрыла глаза и уснула.
И тогда ей навстречу впервые вспорхнуло с сосновой ветки серебристое существо со странными мохнатыми ушками. Симба заплакала, не открывая глаз, но когда отец вернулся в комнату, существо уже улетело и Симба спала крепким — как и положено уставшей восьмилетней девочке — сном.
Симба вновь повернулась на спину, подушка упала на пол, но Симба этого не почувствовала — она ровно дышала во сне, вытянув ноги и аккуратно сложив руки на голой груди, сон её становился все крепче и крепче, и — что самое главное — он был абсолютно лишён сновидений…
Трамвайные глюки
Я сбегаю по лестнице в своих новых кроссовках и ныряю прямо в жару.
Подъездные торчки что–то гаркают мне вслед, но я уже испарился.
Кроссовки мне подарили несколько часов назад. В качестве приманки — или отмазки.
— Чтобы тебе не было грустно, — сказала мать, наблюдая за тем, как я тупо прибираю на столе, — мы тут с отцом решили…
«Мобильник, — подумал я, — наконец–то дозрели!»
Но чтобы родители дозрели именно до того, что мне требуется, — такого ещё не бывало.
Кроссовки, хотя и крутые.
Но всё равно — не мобильник!
Я напялил новьё на ноги и расшаркался. Спасибо, матушка, спасибо, папенька, оттягивайтесь на побережье, а мне пора. Да и им — пора. На две недели они избавятся от меня, я избавлюсь от них. Никто не будет смотреть мне в рот и требовать: покажи, как ты почистил зубы. Разглядывать подошвы ног и особенно внимательно — пятки. Чуть ли не под увеличительным стеклом. Мыл или не мыл. Естественно, мыл, но доказать это невозможно. Надо мыть при матушке. Навряд ли Симбу будет интересовать чистота моих ног.
— Ты это, — сказал отец, — веди себя прилично!
— Он не умеет! — добавила матушка. — Надо было его с собой взять!
— Будем надеяться, — продолжал отец, — что он не натворит глупостей! Ты не натворишь глупостей?
— Нет, — покорно пообещал я и подумал, что едва ли он сам понимает, что имел в виду. Каких это глупостей я могу натворить?
— Ладно, — сказала мать, — нам тоже пора, веди себя хорошо!
Я взял сумку, закинул ее на плечо и вышел в подъезд.
Почти ровно в пять.
Прорыв через подъездных торчков отнял считанные мгновения. Лифт, как водится, не работал, так что пришлось спускаться по лестнице. Я понёсся вниз. Первая группа торчков даже не поняла, кто это летит через их головы, а вторая попыталась меня задержать, но скорость я набрал изрядную, и им только и осталось, что орать мне вслед.
Новые кроссовки очень хорошо подходят для быстрого бега по лестничным пролётам — ногам в них удобно, и подошвы приятно пружинят.
Я оказываюсь на улице и ныряю прямо в жару.
До трамвайной остановки бегу не сбавляя скорости, и только когда появляется знакомая афишная тумба, останавливаюсь — дальше бежать нет никакого смысла.
И вдобавок — я уже мокрый от пота, да и сумку лёгкой не назовёшь. Мать всё–таки заставила меня захватить какие–то дурацкие книжки для чтения по программе.
Хотя прекрасно знает, что читать их я всё равно не буду!
Я ставлю сумку на асфальт и осматриваюсь.
На остановке никого, солнце печёт как на экваторе.
Все умотали за город, к подножию горы, где ручьи, и водопады, и спасительная тень.
На остановке тени нет, мне хочется пить, я покупаю в киоске бутылочку пепси и залпом выпиваю.
И тут из–за поворота появляется трамвай.
Он двухвагонный, обычно я езжу в первом: удобнее выходить, получается метра на три ближе к дому.
Но сейчас я еду не домой, а к Симбе, и понятия не имею, из какого вагона выходить удобнее, то есть — ближе.
Сажусь во второй.
И вдруг понимаю, что я даже не дистенциальный коблоид, а просто козёл.
Обычно в трамвае я слушаю плеер, но сейчас он лежит в сумке. Причём — на самом дне, под свитером, рубашками, майками, трусами, носками и идиотскими книжками, которые надо читать по программе.
И которые я читать не буду.
Которую или которые?
Их две, но название одно.
Какой–то «Тихий Дон».
Трамвай трогается с места, и моя остановка скрывается за поворотом.
В вагоне лишь я и кондуктор, он уже продал мне билет. Как обычно — несчастливый.
Между прочим, недавно мы с матушкой сделали открытие. По поводу счастливых и несчастливых билетов.
Как–то вечером по телевизору прошла реклама о том, что некий магазин объявляет конкурс. Вы приносите счастливые билеты, они запускают лототрон, и если из барабана выпадают те же шесть цифр, что и на вашем билете, вы получаете приз. Телевизор.
— Нам нужен второй телевизор, — сказала матушка, — я бы поставила его в спальне. — И поинтересовалась: — У кого–нибудь есть счастливый билет?
Я полез в карман, обнаружил там кучу билетов, накопившихся за первые летние дни (в школу я езжу с проездным), но счастливого среди них не оказалось.
— Пролетели, — сказала матушка, — в этой семейке не найти ни одного счастливчика!
— Сейчас, — сказал отец, — подождите…
И пошёл на кухню.
— Вот, — объявил он, вернувшись в гостиную, — это вся моя коллекция!
— Какая коллекция? — недоумённо спросила матушка.
— Моя, — гордо ответил отец. — Это мои сорок счастливых билетов, я их с прошлого сентября собираю…
— Их есть надо! — сказала матушка.
— Коллекционные вещи не едят! — возмутился отец.
Трамвай подошёл к следующей остановке, до Симбы оставалось ещё одиннадцать.
Сорок билетов отвезли в магазин, но розыгрыш должен быть через месяц.
Предки уже вернутся, и отец начнёт собирать коллекцию заново.
Он терпеть не может ездить по городу на машине, езди он на машине, собирал бы что–нибудь другое.
Мы с кондуктором всё ещё вдвоем, кондуктор — сухонький пожилой мужчина в тёмных брюках и рубашке с коротким рукавом. Если я не могу слушать музыку, то могу смотреть. Но пока — только на кондуктора, а это не так интересно. Интереснее всего разглядывать женщин, хотя женщин–кондукторов разглядывать тоже неинтересно, они все какие–то громоздкие и на женщин не похожи. Скорее уж на слоних.
Женщина садится за десять остановок до Симбы, но это не женщина, а сумасшедшая старуха, я её знаю. Она вечно что–то выкрикивает, грозит всем кулаками, а через остановку выходит. Мне её жалко, но я не люблю ездить с ней в одном вагоне. Впрочем, в такую жару она вопит не так громко, просто бубнит себе под нос.
Мы въезжаем в старую часть города.
То есть в центр.
Трамвай опять останавливается, и в вагон заходит сразу несколько человек.
Пятеро.
Женщина, мужчина, ребёнок, снова мужчина и ещё одна женщина.
Если ты не можешь слушать в трамвае музыку, тебе надо чем–то себя занять.
Можно читать рекламные объявления, но это скучно.
Можно смотреть в окно, но что нового я там увижу?
А можно разглядывать людей, которые садятся в вагон.
Первые трое — явно семья. Толстый мужик, прихлёбывающий пиво из бутылки — понятно, что ему жарко, рубашка вся намокла, ему противно таскаться в такую жару со своим семейством, интересно, откуда они едут?
Мне почему–то кажется, что из зоопарка.
Ходили смотреть, как звери подыхают от жары.
И чуть не подохли от жары сами.
Мужик плюхается на сиденье, рядом с ним садится ребёнок, а мамаша — напротив.
И, между прочим, под майкой у мамаши явно нет лифчика!
Я пялюсь на её выпирающие груди, понимаю, что это наглость, но ничего не могу с собой поделать.
Майка ярко–красная и очень тесная, так что хорошо видны не только груди, но и вспупырившиеся под тканью соски.
Папаша толстый, мамаша худенькая, а ребёнок у них какой–то замызганный — видимо, устал смотреть на зверей.
Наконец я нахожу в себе силы оторвать взгляд от красной майки и переключиться на другие трамвайные экспонаты.
Но не успеваю, потому что вагон снова останавливается, мужчина и женщина выходят, а в трамвай заваливается шумная компания. До Симбы остаётся девять остановок, родители уже едут в аэропорт, компания располагается посреди вагона, я пересчитываю их по головам, получается семь человек, три парня, четыре девицы, одна из которых мне очень даже нравится. И, судя по всему, её парня тут нет.
Но она старше меня, ей лет восемнадцать.
Я для неё — сопляк.
Вновь смотрю на ярко–красную майку, перевожу взгляд на девицу. Грудь под майкой намного больше, но девица — гораздо симпатичнее. У неё длинные чёрные волосы, и она в очень короткой юбке. И в белой просвечивающей кофточке, под которой отчётливо виден лифчик. Тоже белый.

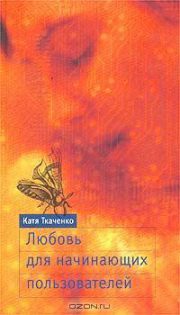
"Любовь для начинающих пользователей" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовь для начинающих пользователей". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовь для начинающих пользователей" друзьям в соцсетях.