– Годун! – воскликнул Урусов.
Годун по-татарски означало хитрый, умный. От сего слова род Годуновых, основанный татарским мурзой Четом, выехавшим на русскую службу. Окольничий Никита Годунов, решив, что мурза призывает его, откликнулся:
– Чего тебе, Уруска?
– Э, не тебя… Годун батыр, – сказал Урусов, указывая на рыцаря под воротами.
Между тем старый рыцарь, едва передохнув, вбивал в ворота крюк, орудуя кулаком в железной перчатке, как молотом. Забив крюк, он повесил на него петарду и вынул из складок плаща фитиль.
– П…ц! – прошептал Игнатий Уваров. – Сейчас еб…т как в Смоленске.
– Господи, благослови, – перекрестился Ондрюшка Мадов. – Держи меня за ноги, Ивашка!
Казак высунулся наружу, и поляки стразу же открыли бешеную пальбу, пытаясь сбить его со стен. Петлин крепко держал его за кушак. Князь Пожарский крикнул казакам:
– Бейте в щель в латах между плечом и рукой.
Мадов почти всем телом перегнулся через стену. По стене ударяли пули, обдавая его голову кирпичной крошкой. Не обращая на них внимания, казак долго целился. Новодворский зажег фитиль и поднес его к высоко подвешенной петарде. Мадов, выжидавший этого момента, выстрелил из старинной пищали. Рыцарь схватился за плечо, фитиль выпал из его рук.
– Бик якши! – в восторге воскликнул Урусов.
– Знай Сибирь-матушку! – ухмыльнулся казак, втянутый товарищем обратно под прикрытие стены.
– С нами Бог! Вперед! На супостата! – приказал князь Пожарский.
Русские гурьбой бросились на врага, укрывшегося в острожке. Впереди всех мчался смолянин Уваров, потрясая огромной секирой. Добежав до тына, он обрушил на головы поляков мощные удары, мстя за разрушенный Смоленск и погибших товарищей. Вслед за смолянином набежали стрельцы, вступившие в рукопашную схватку. Смяв противника, они карабкались через высокий тын, подсаживая друг друга. Теперь уже полякам и венгерцам пришлось защищать острожек, в котором они проделали большие проходы. После нескольких минут яростной схватки поляки дрогнули и отступили из острожка. Стрельцы продолжали теснить их, пока враг не обратился в беспорядочное бегство.
Уже светало. Ратники вернулись, радуясь победе. Все были разгорячены битвой, ликовали и размахивали руками. Урусов тронул за железный локоть князя Пожарского:
– Киняз, сеунч пора!
Пожарский подозвал Игнатия Уварова, который стоял, опершись на славно поработавшую секиру.
– Мчись с сеунчем в Кремль. Передай великому государю, что польские, литовские и немецкие люди с петардами и с лестницами приступили к острожку у Арбатских ворот и ворота острожные выломили петардами, а острог просекли и проломали во многих местах. Но мы польских, и литовских, и немецких людей многих побили и петарды и лестницы поимали.
Слово сеунч по-татарски означало радостную весть. По обычаю с сеунчем посылали отличившихся в битве воинов, и было это большой честью и немалым прибытком. Игнатия Уварова допустят с сеунчем в государевы хоромы, выслушают радостную весть, велят записать ее в особую книгу и там же запишут, что гонцу дана награда за сеунч: серебряный ковш, камка черевчатая добрая и сорок куниц ценою в двадцать рублей. Впрочем, за весть об отбитии врага от Арбатских ворот не жалко подарить и сорок сороков соболей. В стане русских царило ликование. Поляки предавались унынию.
После ночного штурма в окружении королевича долго спорили, выискивая виновника неудачи. Как всегда, победа находит множество отцов, поражение остается горькой сиротинушкой. Никто не хотел брать на себя вину. Корили гетмана Ходкевича, поверившего лазутчикам, которые донесли о ветхости Арбатских ворот. Удрученно толковали, что опять повторилась неразбериха, не позволившая мальтийскому кавалеру Бартоломею Новодворскому проделать брешь в обороне русских. В Смоленске у Авраамиевых ворот куда-то исчезли горнисты. Урок не пошел впрок, и в Москве у Арбатских ворот рыцарь тоже оказался в одиночестве.
Поляки злобно поглядывали в сторону запорожских казаков, вяло действовавших во время приступа. Запорожцам не было равных в жарких делах. Они не устрашались нападать на Синоп и Измаил, жгли Очаков и Перекоп, брали штурмом Кафу и Варну, считавшиеся неприступными крепостями. Москву они взять не сумели или не захотели. Хитрый гетман Петро Сайгадачный заранее получил плату за свои услуги – двадцать тысяч червонных и семь тысяч половинок доброго сукна, и ему был безразличен исход похода. Поляки шептались, что все схизматики заедино. Может, и верно! После московского похода Сайгадачный отправился со всем запорожским войском в Киев, где встречал патриарха Иерусалимского Феофана. Казаки кланялись в ноги патриарху, обточиша его стражбою, яки пчелы матицу свою. Но патриарх гневался и бранил гетмана за то, что он ходил на Москву, помогая латинянам против православных. Гетман, обучавшийся в Острожской греко-славянской академии на Волыни, из стен которой вышел первопечатник Иван Федоров, делал вид, что не понимает по-гречески, и простодушно спрашивал патриарха Иерусалимского:
– Батька, шо такэ? Цела ж та Москва!
Спустя полтора месяца весть о победе над поляками дошла до Тобольска. Иван Желябужский торжественно вещал:
– Недаром на небе явилось Божье знамение, сулившее радость православным людям!
Марья удивилась его словам:
– Ты же давече рек, что хвостатая звезда суть плохое знамение.
– Чаяли, что плохое. Однако мудрые философы толкуют, что ежели звезда стоит главою над каким-то государством, тому государству Господь подаст все блага и тишину. А на кои государства она стоит хвостом, в тех же государствах бывает всякое нестроение. Звезда стояла главою на Москву, хвостом же на ляшские и немецкие земли. Значит, будет тишина и покой в Московском государстве, а у ляхов и немцев будут кроворазлитие многое и междуусобные брани.
Глава 7
Возвращение патриарха
Для поляков неудачный штурм Арбатских ворот означал провал всей кампании. Сейм согласился финансировать войско королевича только в течение одного года. Иноземные наемники, привлеченные надеждами на легкую добычу, чувствовали себя обманутыми, так как обещанное жалованье задерживали. Наемники рассчитывали поживиться в столице московитов, но теперь об этом нечего было мечтать. Великий гетман Литовский Ян Ходкевич лучше кого бы то ни было знал, что без денег любая победа оборачивается поражением. В битве при Кирхгольме гетман Ходкевич притворным отступлением выманил из укреплений шведскую армию, а потом бросил на нее тяжелых гусар, или «летучих ляхов», прозванных так за крылья, притороченные к седлам. При быстром движении крылья из перьев издавали резкий свист, пугавший лошадей противника. Панцирные гусары смяли ряды шведов, почти втрое превосходивших их по численности. Шведский король в панике бежал с поля боя. Великому гетману Литовскому прислали поздравления все европейские монархи, папа римский и даже турецкий султан Ахмед и персидский шах Аббас. Но крылатые всадники не были бестелесными ангелами. Они требовали денег, а казна Речи Посполитой была пуста. Победоносная польская армия попросту разбежалась, подобно потерпевшим поражение шведам.
Понимая, что без золота продолжение войны невозможно, канцлер Лев Сапега настоятельно советовал королевичу вступить в переговоры с московитами. Как ни противился Владислав, ему пришлось согласиться. Первый съезд с русскими послами назначили на речке Пресне. Комиссарами на переговорах от Речи Посполитой были литовский канцлер Лев Сапега, бискуп каменицкий Адам Новодворский, брат раненого мальтийского рыцаря, а также пограничный староста велижский Александр Корвин Гонсевский. Московское государство представляли наместник псковский боярин Федор Шереметев, наместник суздальский князь Данила Мезецкий и дьяк Артемий Измайлов. Боярин и князь был поименованы наместниками для пущей важности – так всегда делалось при важных переговорах.
Комиссары и послы съехались ближе к вечеру, настороженно оглядывая друг друга. Опасаясь подвоха, никто не сошел с коня. Так и вели переговоры в седлах. Из литовских людей чаще всего говорил канцлер Лев Сапега, искусный дипломат, принимавший участие еще в переговорах с царями Федором Иоанновичем и Борисом Годуновым. Тогда Сапеге удалось заключить двадцатилетнее перемирие, но оно не продержалось и половины срока. Канцлер Сапега завел длинную речь, построенную по всем правилам риторики, которую он в числе семи свободных искусств изучал в Лейпцигском университете. Канцлер защищал права королевича Владислава на московский престол. Он перечислял по пунктам все выгоды подчинения королевичу. Новодворский мерно кивал головой в епископской митре, одобряя каждый пункт. Его горячий конь норовил подняться на дыбы, но рука князя церкви была крепка и удерживала норовистое животное. Лев Сапега говорил:
– Не в столь давние времена, когда в Москве правил царь Иван Васильевич, Великое княжество Литовское заключило унию с Польшей. Так создалась славная Речь Посполитая. Отчего бы и вам, московитам, не последовать доброму примеру? Великое княжество Московское станет полноправным участником унии. Поглядите на нас, литовцев. Мы подчиняемся собственным законам, закрепленным в Литовском статуте. Мы имеем свою Раду, без согласия которой король ничего не может предпринять в пределах великого княжества. У вас, московитов, тоже будет своя Боярская дума из знатных людей и Земский собор из представителей разных сословий. В Московском княжестве вы будете судимы по своим судебникам, как это происходит сейчас. Не стоит бояться за греческую веру, ибо в Речи Посполитой каждый волен молиться по своей склонности. Правду ли я говорю? – Канцлер обратился за поддержкой к епископу Каменецкому.
– О, да! Мы уважаем чужую веру, тем более что вы христиане, пусть и заблудшие, – кивнул митрой Адам Новодворский.
Боярин Федор Шереметев вежливо выслушивал речи канцлера. Боярин был многоопытен. Будучи близок к Романовым, он пострадал от гонений, воздвигнутых на них Борисом Годуновым. Все правление лжецаря боярин провел в почетной ссылке на воеводстве в Тобольске. После смерти Бориса он был возвращен, целовал крест Самозванцу, потом свергал его, ставил царя Василия и его свергал. Потом вместе с боярами просил на московский престол польского королевича – что скрывать, было и такое.
Слушая канцлера, Шереметев думал, что литовские люди поздно спохватились. Не дали королевича, когда его столь горячо ждали. Многие хотели Владислава, да шведским принцем тоже не побрезговали бы. Кого угодно из сыновей соседних государей были готовы принять на осиротевший московский престол, лишь бы прекратилась Смута. Но с той поры много воды утекло, а еще больше – крови. Нет доверия льстивым речам о терпимости к православию. Не отступнику Сапеге, дважды переменившему веру, толковать о православном законе! На длинную речь канцлера боярин дал краткий ответ:
– Мы государя выбрали, крест ему целовали, венчан он уже венцом царским, и мы не можем от него отступиться.
– Достойно сожаления, что вы предпочитаете тиранию, хотя фортуна предоставляет московитам счастливую возможность насладиться шляхетскими вольностями! – гнул свое канцлер.
– Вольности нам не нужны. Не было, нет и не будет в Московском государстве обычая жить свободно, – парировал Шереметев.
– Мы рабы великого государя, а ваши вольности нам как телеге пятое колесо, – подтвердил князь Данила Мезецкий.
– Не все так мыслят, – возражал Сапега. – Нам известно, что царь Василий Шуйский при избрании на престол дал крестоцеловальную грамоту не казнить бояр без согласия Боярской думы. До нас также дошли слухи, что с молодого Романова, коего вы безосновательно именуете царем, также были взяты письменные обязательства, ограничивающие его тираническую власть.
– Никоторых писем с великого государя имано не было, – твердо отвечал Шереметев. – Царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси вручена самодержавная власть, коей пользовались его царственные предки. Он волен казнить и миловать, а иной воли нам не надобно.
Боярин не кривил душой. Правда, на Земском соборе толковали, что неплохо было бы взять с царя письменное обещание править в согласии с боярами и собором. Но разговоры ничем не закончились и жезл единодержавия был вручен Михаилу Федоровичу без всяких условий. Шереметев считал, что негоже ограничивать власть самодержца. Вольности не подходят русскому человеку – в этом боярин был уверен так же твердо, как в том, что солнце восходит с востока. Дай волю холопу, и он безобразно загуляет. Освободи от тягла крестьянина, и он, чего доброго, вообще перестанет пахать и сеять, предаваясь праздности. Оставь без воеводского пригляда купчишку – он непременно начнет плутовать, а дворянин, пожалуй, на коня не сядет и сабли из ножен не вынет, когда его позовут в поход. Единственно, родовитым боярам можно было бы прибавить воли, однако и они в своем большинстве не знают порядка – перессорятся, перестанут слушаться государевых указов, а то и измену замыслят.

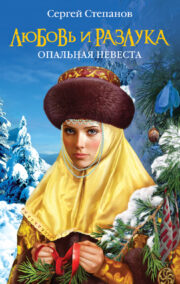
"Любовь и разлука. Опальная невеста" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовь и разлука. Опальная невеста". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовь и разлука. Опальная невеста" друзьям в соцсетях.