– Станови здесь, – сквозь зубы приказал он извозчику, когда они свернули в тесный темный проулок, сплошь заросший яблонями и липами. – Да смотри дождись меня!
– Не бойсь, Трофимыч… – пробасил извозчик. И тут же залюбопытствовал: – А что у вас за баталья сегодня приключилась? Ажно на Садовой слыхать было, как Яков Васильич разорялися… Опять, что ль, кто из теноров запил?
Митро только отмахнулся и, широко шагая, пошел прямо по лужам к дому. Войдя во двор, он споткнулся о лежащую в грязи подкову, выругавшись, отшвырнул ее сапогом, поднял голову – и остановился, встретившись глазами со стоящей на крыльце дома молодой цыганкой.
– Варька? Фу-у, слава богу, здесь еще… Где Илья?
Варька не ответила. Она была очень нехороша собой: темное, худое и резкое лицо, слишком густые, почти сросшиеся на переносице брови, большой нос, крупные, выпирающие вперед зубы. Только огромные, черные, без блеска глаза с длинными ресницами немного выручали Варьку, но и сама она, и цыгане вокруг уже давно поняли: замужем ей не бывать. В хоре ее держали из-за голоса: у Варьки был сильный, красивый, бархатистый альт. Поклонниками же особенно ценилась Варькина манера исполнения: всегда сдержанная, без лишних эффектов, но с прорывающимися иногда живыми, страстными нотами, от которых даже у искушенных слушателей мороз шел по коже. Варька и ее брат Илья, оба таборные, появились в Москве прошлой осенью, их прослушал Яков Васильев, сразу же взял в хор, и через две недели брат и сестра Смоляковы уже были известны всей Москве. У Ильи, таборного кофаря и конокрада, был невероятной красоты драматический тенор, который приводил в восторг даже профессоров консерватории, но хоревод не спешил радоваться выросшим чуть не вдвое доходам хора. «По весне все едино смоются. Знаю я этих голодранцев таборных – одни кони в голове».
Старый дирижер не ошибался: Илье сидение в Москве надоело еще задолго до прихода весны, и он не съехал назад к своим посреди сезона только из-за Насти. Все до одного цыгане знали: Илья Смоляко потерял голову в тот же день, как увидел дочь дирижера. Знал об этом и Яков Васильев, но всерьез к страсти таборного парня не относился: Настя в то время готовилась выйти замуж за князя и на Илью не обращала никакого внимания. Никто никогда не видел, чтобы они разговаривали наедине. Никто не замечал хоть малейшего внимания Насти в ответ на молчаливые, упорные взгляды Ильи. К тому же у Ильи была любовница: купеческая жена Лизавета Баташева, к которой он втихую бегал всю зиму. Имя своей замужней пассии Илья скрывал, догадывалась кое о чем только его сестра, но три дня назад все неожиданно вышло наружу. Муж Баташевой, известнейший московский купец, всю зиму пробывший на соляных копях в Перми, неожиданно, без предупреждения, на ночь глядя нагрянул домой. Илью скрутили приказчики прямо во дворе баташевского дома и убили бы, не подоспей на выручку молодые цыгане во главе с Митро, которому с перепугу Варька рассказала все. А Лизавету Матвеевну спасать было некому, и муж избил ее до смерти прямо в комнате с разобранной супружеской постелью, на которой она ждала любовника. Купца Баташева в состоянии полной невменяемости забрали в участок; Илью с разбитой головой цыгане отволокли на Таганку к кофарям, справедливо рассудив, что там его никто искать не станет. Варька осталась при брате, и Митро уже знал: в хор эти двое больше не вернутся. Лизавету Баташеву схоронили на Рогожском кладбище, Настя выходила замуж, и Илью больше ничего не держало в Москве.
– Как башка у Ильи, зажила? – Митро поднялся на крыльцо, встал рядом с Варькой. – Говорил я, что ничего ему не будет. У конокрадов головы крепкие, лупи их хоть колокольней – нипочем… Да где он? Дрыхнет до сих пор? Варька, ты… да ты ревешь, что ли?!
Митро резко поднял за подбородок Варькину голову. Та немедленно отбросила его руку, но уже не могла скрыть бегущих по лицу слез. Митро, нахмурившись, ждал, пока Варька вытрет глаза рукавом, высморкается в край передника и переведет дух. Затем, глядя в сторону, глухо сказал:
– Ладно… знаю я. Настька к нему прибежала? Это правда?
Варька молча кивнула.
– Ты знала?
– Нет.
– Не ври! – повысил голос Митро. Варька ответила, не поднимая глаз:
– Не приучена, Дмитрий Трофимыч. Не кричи на меня.
– Прости, девочка. – Митро невольно смутился. – Не хотел. Но… как же это так? И ты не знала, и я не знал… и никто?! Ну, что Илья от Настьки ошалел, это, конечно, вся улица видела. Но она-то, она!.. Когда только сговориться успели?! Да любила она его, что ли?! Ведь…
– Любила, Дмитрий Трофимыч, – вполголоса сказала Варька, и Митро умолк на полуслове. – Еще как любила. А что не знал никто – так и слава богу. Настька гордая… Они с Ильей еще зимой сговорились, только не сладилось.
– Не сладилось? – машинально переспросил Митро. Варька кивнула, прислонилась спиной к сырому от дождя косяку двери.
– Ты лучше сядь, Дмитрий Трофимыч, говорить мне долго…
Митро молча сел на крыльцо. Варька села ступенькой ниже. По-прежнему не глядя на Митро, продолжила:
– Знаешь, почему князь Сбежнев из Москвы уехал? Вы думали, он Настьку бросил, не захотел на цыганке жениться. А она сама к нему домой пришла, все его подарки ему назад принесла и сказала, что не выйдет за него, что Илью любит. Помнишь, перед Рождеством самым?..
– Так вот откуда она тогда на ночь глядя вернулась… – пробормотал Митро. – А мы-то чего только не думали…
– Да. Только Илья увидел, как она к князю в дом заходила. Проследил за ней, что ли, или просто ненароком там оказался… – Варька вздохнула. – Ну, сам знаешь, что началось. Илья, он ведь говорит сперва, а потом думает… В таборах за то, что девка к мужику домой бегает, косы режут.
– Так это что же он, поганец, решил? Что Настька… Настька?!.
– Ну да.
– То-то они до самой весны друг с другом не здоровались… А мне и в голову не приходило… – Митро мучительно тер кулаком лоб. – Мы-то все думали, что он полюбовницей тешится… Тьфу, прости ради Христа. Ты – девка, не годится тебе об этом…
– Ладно тебе… А то я сама не знала. – Варька горько улыбнулась. – А сегодня, прямо перед грозой, Настька сюда прибежала. Как они договорились, я не знаю: я в таборе была, который за Рогожской стоит. Настю с Ильей на дороге встретила, когда возвращалась.
– Так они?.. – Митро привстал. Варька спокойно потянула его за руку.
– Сиди, Дмитрий Трофимыч. С табором они уехали. Догнать, конечно, еще можно, только ни к чему. Я брата своего знаю. Настя уже жена ему, он ее назад не отдаст. Зубами грызть будет, жилы рвать, а не отдаст.
– Может, не успел еще, сукин сын… – простонал сквозь зубы Митро, но прозвучало это уже безнадежно. – Ах, проклятый, взялся на нашу погибель… И ведь я же сам, я его себе на голову в хор привел! Да чтоб мои ноги тогда отсохли и отвалились, куда же он Настьку потащил?
– Не потащил, а сама пошла, – ровно сказала Варька. – В табор пошла, Дмитрий Трофимыч. Замуж пошла.
– Да место ей там, что ли?! Что она там делать будет?! – заорал на весь переулок Митро. – Она – певица! Хоровая! На нее вся Москва ездила! А теперь гадать по площадям начнет? Христа ради у заборов побираться? Картошку с возов воровать?!
– Успокойся, Дмитрий Трофимыч. Может, назад вернутся.
– Вернутся, как же! Кто им даст вернуться?! Да нам теперь Бога молить надо, чтобы Яков Васильич Настьку не проклял! Она же замуж должна была идти! Уже сговорено было, Яков Васильич свое слово дал! Ну, и заварили же вы кашу, Смоляковы… На всю Москву теперь разговоров… – Митро умолк, сокрушенно опустил голову. Молчала и Варька. Солнце уже село за Новоспасский монастырь, и последние лучи один за другим гасли в чернеющей листве яблонь. Со стороны Москвы-реки потянуло сыростью, вдоль кривых заборчиков вставал вечерний туман. Отовсюду доносился стрекот кузнечиков, где-то на кладбище тоскливо завыла на поднимающийся месяц собака.
– Прости меня, девочка. Наговорил тебе не того… – горько вздохнул Митро.
– Пустое, Дмитрий Трофимыч.
– Дэвла,[3] что ж теперь с хором-то будет? – медленно выговорил Митро. – Разом все голоса разлетелись. Настька убежала, Илья смылся, ты… Эй, а ты-то, может, останешься? Варька, а?! Без тебя-то как? Без тебя низы гроша не стоят! А «Ветер осенний» кто петь будет? А «Лучину»? А «Луной был полон сад»?!
– Смеешься, Дмитрий Трофимыч? – усмехнулась, глядя в сторону, Варька. – Как это я останусь, при ком? Сам только что сказал, я – девка. Мне при брате оставаться, больше никак. Не цыган ты, что ли, что я тебе объяснять должна?
– Так ведь и мы тебе родня, – не очень уверенно сказал Митро. – Мой двоюродный брат из вашего рода жену взял, забыла? Оставайся хоть ты, Варька, с Яков Васильичем я поговорю, тебя он примет, твое дело – сторона! Да и тебе в хоре-то лучше, чем по степям за кибиткой скакать! Что тебе в таборе, кому ты там… – Митро запоздало спохватился, умолк. Через минуту смущенно покосился на Варьку. Та сидела не двигаясь, молчала. В сгустившихся сумерках не видно было ее блестящих от слез глаз.
– Не могу я, морэ. Не могу никак, – проглотив наконец вставший в горле ком, сказала Варька. – Ты вот поминал, что Насте в таборе тяжело будет. А без меня они с Ильей и вовсе пропадут. Не ей же, в самом деле, гадать бегать? Кто там около нее будет, кто помогать станет? Еще и бабы эти наши, языки без костей, смеяться будут попервости… Нет, мне там, с ними, надо быть.
– Ну, хоть осенью возвращайся! Все равно всю зиму в Смоленске на печи просидите! Сейчас-то сезон кончается, господа наши все по дачам да Ялтам разъедутся, авось лето протянем как-нибудь, а осенью… Возвращайся, Варька! Денег заработаешь. Да и самой веселее, чем в деревне сидеть. Может, мы постараемся да мужа тебе какого-никакого сыщем…
– Ну, вот еще радость… – без улыбки отмахнулась Варька.
– Да дураки наши цыгане, – глядя на нее, серьезно сказал Митро. – За такую девочку, как ты, шапку золота отдать не жаль, а им… Глазки-зубки подавай да мордашку. Дураки, и все.
– Не шути, Дмитрий Трофимыч, – сдавленно сказала Варька.
– А я и не шучу. – Митро встал. – Что ж, девочка… Счастливой дороги. Илье передай, встречу – убью. А ты, гляди, возвращайся осенью. Дай слово, что вернешься!
– Слова давать не буду, – твердо сказала Варька. – Вот если сложится у Насти с Ильей хорошо, – тогда приеду, видит бог. Прощай, Дмитрий Трофимыч. Удачи тебе.
– Эх… Прощай, девочка.
Митро быстро сбежал с крыльца, не оглядываясь, пересек двор и скрылся в темноте. Варька осталась сидеть, сгорбившись и уткнувшись лицом в ладони. Плечи ее дрожали, но рыданий слышно не было. Когда рядом скрипнула дверь и по крыльцу протянулась полоска света из дома, Варька испуганно выпрямилась, замерла. На крыльцо вышла хозяйка дома – худая, вертлявая цыганка с головой, прихваченной сверху красным платком.
– Уехал? – резким голосом спросила она. – А я сижу, как мышь под веником, высунуться боюсь, думаю – под горячую руку и мне достанется… – вытянув шею, она посмотрела через забор, убедилась, что Митро не видно, и фыркнула:
– Дураки ему, видите ли, цыгане! Взял бы да сам на тебе женился, раз умный такой! Жена еще по той зиме померла, так что-то новую взять не торопится, а все по девкам срамным бегает! Илью убить грозился, а самого вся Грачевка знает![4]
– Оставь, Феска… Шутил человек, а ты разоряешься. Идем лучше спать, мне завтра спозаранок табор догонять. – Варька встала, быстро пройдя мимо Фески, скрылась в доме. Хозяйка, пожав плечами, пошла за ней. Новорожденный месяц поднялся над засыпающей Москвой, и собака на кладбище завыла еще громче. В глубине сада, словно отвечая ей, щелкали соловьи, туман понемногу затягивал опустевшую улицу. С востока черной сплошной пеленой шла новая туча.
Гроза отгремела к рассвету, и утро над Москвой занималось ясное и свежее. Молодая трава за заставой вся полегла от ночного ливня, дорожные колеи были полны водой. Табор, стоявший на третьей версте, снялся с места еще затемно, не оживляя залитых дождем костров, и только оставшиеся угли темнели посреди пустого поля. Солнце давно поднялось над мокрым полем, засветились золотыми пятнами купола московских монастырей, прозрачное небо наполнялось чистым голубым светом. О грозе напоминала только узкая полоска облаков, спешащая пересечь горизонт вслед за давно ушедшей тучей. На один из скособоченных стогов сена, сметанных возле маленького лугового пруда, упал с высоты жаворонок. Посидел немного, ероша клювом перышки на груди, затем озадаченно прислушался к чему-то, склонив головку, и тут же с испуганным писком взмыл в небо. Прошлогоднее мокрое сено зашевелилось, и из него вылезла черная, встрепанная, вся в трухе голова.
– Тьфу ты, пропасть… – проворчал Илья, когда на него с вершины стога низвергся целый поток ледяных капель. Поеживаясь, он вылез из сена, кое-как отряхнулся, с хрустом потянулся, посмотрел на свой голый живот, сообразил, что рубашка осталась там, в стогу, полез было за ней… и тут же выскочил наружу как ошпаренный, разом вспомнив все, что было вчера. Душный грозовой день, непроходящая головная боль, тоскливые, тяжелые мысли, ожидание вечера: скорее прочь из города, вон из проклятой Москвы, где они с Варькой ничего хорошего не видели, где со дня на день выйдет замуж Настя, с которой он повел себя тогда, зимой, как последний дурак, сам упустил свое счастье и не воротишь теперь, хоть все локти обкусай… Разве мог он подумать, валяясь на Фескиной кровати лицом в подушку и проклиная собственную дурь, что через мгновение хлопнет дверь, и вбежит Настя, и упадет как подкошенная на пол с криком: «Живой, Илья, господи!» Слава богу, он не растерялся, и через полчаса они уже бежали, держась за руки, под усиливающимся дождем к заставе, за которой стоял табор. Навстречу им попалась Варька, которая, вместо того чтобы вместе с братом и его невестой мчаться к цыганам, вдруг объявила, что неплохо было бы сначала уладить дела в хоре. Илья справедливо возразил, что, после того как он увел почти из-под венца первую солистку, в хоре его в лучшем случае не до смерти изобьют. Настя с ним согласилась:

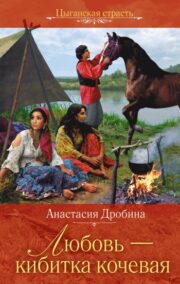
"Любовь – кибитка кочевая" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовь – кибитка кочевая". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовь – кибитка кочевая" друзьям в соцсетях.