– Корча ему, должно быть, советовал, куда откочевывать, – подумав, сказал Илья. – Здесь-то совсем теперь нехорошо будет, да и девок замуж не выдашь… Поедут, верно, в Сибирь. Настя, ну что ты плачешь опять? Да что тебе эта Данка – сестра, что ли, что ты так убиваешься?
– Да я ничего… – отмахнулась Настя, хотя глаза ее были красными от слез. Она быстро вытерла их и вместе с Варькой продолжала стягивать полотнище шатра с жердей: нужно было торопиться, табор снимался с места. Уговорились ехать на Дон, к табунным степям.
Опозоренной невесты простыл и след. Цыгане шептались, что она до сих пор может отлеживаться где-нибудь в траве после отцовских побоев. И уже перед тем, как табор был готов тронуться с места, со стороны реки примчалась испуганно орущая ватага детей: на берегу, у самой воды, валялось скомканное, извалянное в песке свадебное платье, следы босых ног, отпечатавшиеся на песке, уходили в воду. Табор взорвался было гулом взволнованных голосов – и сразу умолк. Цыгане попрыгали по телегам, засвистели кнуты, залаяли собаки, и вереница кибиток чуть быстрее, чем обычно, поползла прочь по пустой дороге: всем хотелось поскорее убраться с этого проклятого места.
Илья, поразмыслив, пристроил свою бричку в самом хвосте – и убедился в правильности этого решения, когда увидел едущего верхом им навстречу Мотьку. Варька, идущая позади кибитки, тоже увидела его, поймала взгляд брата, нахмурилась и замедлила шаг, отставая. Илья перекинулся с подскакавшим Мотькой коротким приветствием, зевнул, вытянул кнутом гнедых, и бричка покатилась быстрей. Мотька спрыгнул с лошади и пошел рядом с Варькой.
– Доброго утра, чайори.[21]
– И тебе тоже, – отозвалась она.
– Илья… говорил с тобой вчера?
– Говорил. Спасибо за честь.
– Пойдешь за меня?
– Пойду, коли не шутишь.
– Какие теперь шутки. – Мотька умолк, глядя себе под ноги, на серую пыль, уже покрывшую сапоги. – Только, чайори… Попросить хочу.
– Знаю. Чтобы свадьбы не было. – Варька криво улыбнулась углом рта, впервые обернулась к Мотьке. – Мне ведь эта свистопляска тоже ни к чему. Давай уж, что ли, убежим?
Мотька тоже невольно усмехнулся.
– Что ж… Ежели погони не боишься…
– Кому нас догонять-то? Илья всю ночь согласен без просыпу спать, лишь бы меня с рук сбыть.
– Ну-у, что выдумала… – протянул Мотька, но Варька была права, и он, помолчав, сказал только: – Сегодня, как стемнеет, – жди. Да Илью упреди, чтоб не подумал чего…
– Упрежу.
Мотька вскочил верхом и, не глядя больше на Варьку, ударил пятками в бока вороного. Когда тот скрылся за плывущими впереди кибитками, Илья с передка брички спросил:
– Ну, чего?
– Сговорились ночью убежать.
– Без свадьбы, что ль?
– Свадьбы ему теперь в страшных снах только сниться будут, – без улыбки сказала Варька. – Пусть уж так. Ночью убежим, наутро мужем и женой вернемся. Как вы с Настькой.
– Ну, добро. Смотри не передумай до ночи-то.
Варька только отмахнулась. Высунувшаяся из брички Настя взволнованно окликнула ее, но Варька сделала вид, что не услышала, и продолжала идти, загребая босыми ногами дорожную пыль. Ее сощуренные глаза глядели в рассветное небо на медленно плывущие облака.
Вслед за майским мягким теплом разом навалились тяжелые душные дни. За весь июнь и пол-июля не выпало ни капли дождя, над степью нависло белое небо с блеклым от жары, огромным шаром солнца. Табор еле полз по дороге в облаках пыли, замучившей и людей, и лошадей, лохматые собаки подолгу лежали вдоль дороги, высунув на сторону языки, и потом со всех ног догоняли уползшую за горизонт вереницу кибиток, – с тем чтобы через полчаса снова свалиться в пыль и вытянуть все четыре лапы. Цыгане ошалели от жары настолько, что даже не орали на лошадей, и те шли неспешно, не слыша ни проклятий, ни свиста кнута. Старики каждый день обещали дождь, и действительно, к вечеру на горизонте обязательно появлялась черная туча. Но ее всякий раз уносило куда-то вдаль, за Дон, и с надеждой поглядывающие на тучу цыгане разочарованно вздыхали.
Илья шел рядом с лошадьми, вытирая рукавом рубахи пот, заливающий глаза. Иногда он замедлял шаг, ждал, пока кибитка проплывет мимо него, и спрашивал у идущей следом за ней жены:
– Настька, как ты? Ежели тяжело – полезай в бричку! Гнедые не свалятся небось…
Настя, запыленная до самых глаз, только качала головой. Рядом с ней брела такая же грязная и замученная Варька, у которой не было сил даже привычно запеть, чтобы разогнать усталость. Сзади скрипела Мотькина кибитка, и ее хозяин, так же, как Илья, чертыхаясь, тянул в поводу то и дело останавливающихся коней.
С того дня, как семья Ильи Смоляко вернулась в табор, шел уже второй месяц. Варька с Мотькой все-таки убежали тогда вдвоем. Илья, спавший вполглаза, слышал тихий свист из кустов и то, как Варька, путаясь в юбке, на четвереньках подползает под приподнятый край шатра. Илья приподнялся на локте, сонно посмотрел вслед сестре, проворчал: «Ну и слава богу…» – и, не слыша того, как рядом тихо смеется Настя, тут же заснул снова. Наутро Варька с Мотькой объявились перед озадаченными цыганами мужем и женой. В таборе посудачили и решили, что это и к лучшему: «Варька уж точно никуда не денется». Мотька был младшим сыном в семье и своего шатра не имел, живя с родителями. Те сразу приняли Варьку, тоже, видимо, подумав, что так будет лучше и для сына, и для них. К тому же Илья дал за сестрой годовалую кобылу, новую перину, шесть подушек, самовар, три тяжелых золотых перстня и двести рублей денег, что было, по таборным меркам, очень неплохо. Варька начала вести обычную жизнь молодой невестки: вскакивала на рассвете, носила воду, готовила и стирала на всю семью, бегала с женщинами гадать и еще успевала опекать Настю. Мотька, конечно, видел то, что молодая жена живет на две семьи, но не возражал: ему было безразлично. Илья никогда не видел, чтобы они с Варькой обменялись хоть словом, Мотька никогда не называл жену по имени. Сначала Илья хмурился, но Варька как-то сказала ему:
– Да перестань ты стрелы метать… Ты же лучше всех знаешь, почему он меня взял. И почему я пошла. Я ему как прошлогодний снег, так ведь и он мне тоже. Так что хорошо будем жить.
Илья вовсе не был уверен в этом, но спорить не стал: сестра и впрямь выглядела если и не особо радостной, то хотя бы спокойной. А раз так – пусть живет как знает. Не глупей других небось.
Начал он понемногу успокаиваться и по поводу Насти. Жене Илья ничего не говорил, но в глубине души отчаянно боялся, что таборные не примут ее, городскую, ничего не умеющую, знающую лишь понаслышке, что в таборе женщина должна гадать и «доставать». И действительно, первое время в каждом шатре мыли языки, и Илья ежеминутно чувствовал на себе насмешливые взгляды. Он злился, обещал сам себе: как только кто откроет рот – по репку вгонит в землю кулаком. Но в таборе Илью побаивались, и в глаза ни ему, ни Насте никто не смеялся.
Цыганки, правда, поначалу держались с Настей отчужденно, ожидая, что городская артистка будет задирать нос, и готовясь сразу же дать достойный отпор. Но Настя безоговорочно приняла правила таборной жизни, не заносилась, не стеснялась спрашивать совета, не боялась показаться неумехой, сама громче всех смеялась над собственными промахами, и в конце концов женщины даже взялись опекать ее. То одна, то другая с беззлобными насмешками показывала растерянно улыбающейся Насте, как правильно развести огонь, как укрепить жерди шатра и натянуть полог, как напоить лошадь и даже как правильно свернуть, чтобы не помялась в дороге, юбку.
Впрочем, Илья наплевал бы на любое ехидство и попросту не позволил бы жене болтаться с цыганками по деревням, если бы Настя не настаивала так упрямо на этом сама. Илья, еще в Москве приготовившийся к тому, что о прокорме семьи ему придется как-то заботиться самому, только диву давался, глядя, как Настя вскакивает до света, бежит с ведром за водой, разжигает, хоть и неумело, огонь, пытается что-то сварить из того, что накануне сама же и достала. С этим доставанием был, конечно, смех и грех. Когда вечером табор останавливался, мужчины распрягали лошадей и ставили шатры, цыганки скопом шли в ближайшее село или деревню, и Настя храбро шла вместе с ними, так же одетая в широкую юбку и вылинявшую до белизны кофту, отличимая от других цыганок лишь светлым, еще не загоревшим до медно-смуглого цвета лицом и слегка испуганным выражением на нем. Вместе с ней неотлучно была Варька, да и старая Стеха, неоспоримый таборный авторитет, всегда поддерживала Настю, и Илья точно знал: пока эти две цыганки рядом, жену не обидит никто.
Но зато в деревне начинался сущий цирк! Цыганки крикливой саранчой рассыпались по домам, волоча за собой детей: гадать – ворожить, клянчить, лечить, творить особые, никому из деревенских не известные «фараонские» заговоры… Одна Варька умудрялась за два часа погадать на судьбу в одном дворе, зашептать печь, чтобы не дымила, в другом, вылечить кур от «вертуна» в третьем, научить некрасивую девку, как привадить женихов, шепотом присоветовать суровому, с бородой веником, старосте, что делать, если встретятся жена и полюбовница, продать мазь от колотья в спине какой-нибудь необъятной попадье да еще и втихомолку надергать на оставленном без присмотра огороде молодой морковки. О Стехе и говорить было нечего: та, все свои семьдесят лет проведшая в кочевье, угадывала судьбу человека по лицу и даже не опускалась до воровства – крестьянки тащили ей снедь сами, и без курицы удачливая бабка в табор не приходила. Про Настю Стеха, незло посмеиваясь, говорила:
– Тебя, девочка, только как манок брать с собой! Поставить середь деревни и, пока гаджэ на твою красоту пялятся, все дворы обежать и все, что можно, прибрать.
Настя грустно улыбалась: Стеха была права. Стоило ей заглянуть через какой-нибудь забор и несмело предложить: «Давай, брильянтовая, погадаю…», как «брильянтовая» тут же бросала ведро, веник или скребок и визжала в сторону дома:
– Эй, выходите, родимые! Поглядите, какая цыганка красивая пришла!
Тут же сбегалось полдеревни баб, и на Настю смотрели, как на вынесенный в праздник из церкви образ. Настя отважно ловила за руку ближайшую из них и, вспоминая Стехины и Варькины уроки, начинала говорить что-то о судьбе и доле. Иногда даже «попадала в жилу» и баба слушала с открытым ртом, но чаще всего гадание не получалось и крестьянка выдергивала грязную, растрескавшуюся ладонь, со смехом говоря:
– Отстань, я про судьбу сама все знаю. Дай лучше посмотреть на тебя. А ты петь не умеешь?
Едва только слышался подобный вопрос, Настя облегченно вздыхала: теперь было ясно, что совсем пустой в табор она не вернется. Другие цыганки даже сердились на нее, потому что, стоило Насте запеть, как все до одного обитатели деревни, вырываясь из рук гадалок и не слушая больше самых заманчивых посулов, неслись на чистый, звонкий голос, на улетающую к вечерним облакам песню.
Романсы, которые Настя пела в Москве, здесь, в деревнях, были не в ходу, и ей пришлось вспоминать русские песни. Их тоже пели в городских хорах, но гораздо меньше: только от старых певиц Настя слышала «Уж как пал туман», «Невечернюю» и «Надоели ночи, надоскучили». К счастью, память у нее была хорошая, и песни вспомнились понемногу сами собой. Она пела до хрипоты, плясала, иногда одна, иногда с другими цыганками, тоже желающими подзаработать, и в фартук ей складывали овощи, хлеб, яйца, бывало, что давали и деньги. И все же это было немного.
Легче было в городах: в Брянске Настя собрала вокруг себя чуть ли не всю ярмарку. Народ стоял плотной толпой, среди серых крестьянских рубах попадались синие поддевки купечества и даже плащи и летние пальто господ почище. По окончании импровизированного концерта, когда несколько чумазых девчонок зашныряли в толпе, исправно собирая деньги со зрителей, к уставшей Насте протолкался хозяин одного из местных балаганов и немедленно предложил ангажемент на всю ярмарку. Настя, подумав, согласилась, взяла вторым голосом Варьку, и за две недели они заработали больше, чем все, вместе взятые, таборные цыганки, тут же на ярмарке с утра до ночи искавшие, кто позолотит руку. Илья, не вылезавший из конных рядов, вечерами хохотал: «И здесь хор себе нашла!»
– Какие тут хоры – смех один… – невесело улыбалась Настя. Она не рассказала мужу о том, что на второй день их с Варькой выступлений в балагане уже сидел дирижер из цыганского хора, который немедленно пригласил таборных певуний к себе. Они выслушали старика c уважением, но, переглянувшись, твердо отказались. Хоревод долго уговаривал, обещал поговорить с мужьями, клялся, что артисток ждут золотые горы… Настя только молча качала головой. Все это уже было у нее в Москве. Было – и прошло. А теперь нужно учиться совсем другой жизни.
Всего однажды над Настей попытались посмеяться в открытую. Это было во время стоянки возле станицы Бессергеневской. В тот день не повезло всем: то ли казаки здесь были слишком жадными, то ли сердитыми из-за предстоящих военных сборов, но даже Стеха вернулась вечером в табор без куска сала. Настя расстроенно вытряхивала из фартука перед костром какую-то прошлогоднюю редиску, когда кузнец Мишка по прозвищу Хохадо, не отрываясь от растянутых мехов, насмешливо крикнул Илье:

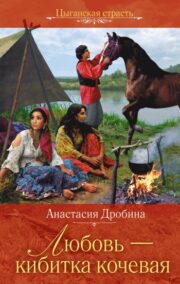
"Любовь – кибитка кочевая" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовь – кибитка кочевая". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовь – кибитка кочевая" друзьям в соцсетях.