Дарья Биньярди
Любовь надо заслужить
Посвящается Северино.
И Тони.
Существование зла всегда основано на преступной нехватке любви по отношению к носителю зла. Из этого вытекает принцип солидарной ответственности всех моральных существ.
Daria Bignardi
L’amore che ti meriti
Перевод с итальянского Ирины Боченковой
© 2014 Arnoldo Mondadori Editore S.p. A., Milano
Альма
Ааль–маа–Маа–йоо, Ааль–маа–Маа–йоо.
Теперь, когда я рассказала Тони о том, что произошло тридцать лет назад, мне снится мама, я слышу ее низкий голос, который зовет нас, мелодично выделяя повторение «ма». Альмамайо — это звуки из моей прежней жизни, счастливой.
Я увидела его, произнесла по слогам «Ма–йо», он всегда был Майо; когда в газетах появилось его настоящее имя, немногие поняли, что тот Марко — мой брат.
Июньский вечер наполнен липовым ароматом.
Майо везет меня на велосипедной раме, крутит педали, почти задевая старые городские стены, нагретые солнцем; я провожу рукой по его губам, а он пытается укусить мои пальцы. И чем больше я хохочу, тем больше он притворяется, что вот–вот упадет, — он просто дразнит меня.
Мы поехали вдвоем на его велосипеде, потому что у моего спустилось колесо. Майо держит руль одной рукой, в другой у него сигарета с дрянной марихуаной, выращенной у дамбы на реке По.
В тот вечер мы посмотрели фильм Антониони и по дороге домой без конца повторяли сцену, в которой герои едут в машине: она спрашивает у него, от чего он убегает. Он отвечает: «Повернись спиной к тому, что впереди».
В ожидании ужина, пока в духовке греется пицца, я курю на балконе, наблюдая за снующими ласточками. Майо выходит из душа в синем халате отца, высовывается в окно — глаза зажмурены, с волос капает, подбородок вверх — и кричит, раскрыв объятия: «От чего ты бежишь, Альма?»
Если фильм нам нравился, мы потом долго повторяли кстати и некстати полюбившиеся фразы.
На булыжной мостовой велосипедная рама врезается мне в задницу, а Майо специально едет по всем выбоинам, чтобы меня позлить.
— Ха–ха–ха, мои новые джинсы как подуха–ааа, — напеваю я.
— Толстуха, толстуха, будет сейчас тебе подуха, — в тон отвечает он мне.
Майо с меня ростом и очень худой. Еще три года назад мы менялись с ним одеждой, потом у меня выросла грудь и раздались бедра. Отец был рад, что я наконец–то созрела: моя гормональная задержка вызывала у него серьезные опасения.
Он всегда в мельчайших подробностях предрекал разные беды, болезни, финансовые кризисы, провалы и поражения, вплоть до бытовых неурядиц: рестораны закрыты, билеты проданы, парковки заняты. Можно сказать, жил в ожидании неизбежной катастрофы. Предусмотрел все возможные несчастья, страдания и боль, кроме той, которая нас раздавила.
Родители уехали в деревню, а мы остались ждать табель успеваемости, хоть результаты и так были известны: я переведена в следующий класс, Майо получил переэкзаменовку.
Отец не рассердился, он боялся лишь серьезных бед. Мама только пожала плечами: она сразу сказала, что мой лицей — не для Майо. Это я настояла.
Майо был веселый, покладистый, ленивый. Не то что я.
В деревне, перед поездкой в Бухарест, мы собирались позаниматься. Но август, как всегда, хотели провести на море.
Мы наслаждались свободой, вечерами без родителей, радовались началу каникул. Всё было прекрасно.
На привычном месте встреч, у мраморного грифона на площади, нашли только Бенетти. В воскресенье кое–кто из наших уехал на море и еще не вернулся. Вот–вот должна была приехать Микела, прожаренная солнцем, блестящая от крема, и мы пошли бы пить пиво к Маго. Закат в тот вечер тянулся бесконечно.
Мне было семнадцать, тогда я не понимала, как мы счастливы.
Антония
Переворачиваюсь на спину. Левый бок — спина — правый бок, последние два месяца только так и сплю. Живот круглый, как мяч, я поправилась на пять кило. В самый раз, — говорит мой гинеколог. Маловато, — считает Лео.
Лео спит на животе, счастливчик, рука свешивается с постели. Снова переворачиваюсь на бок и пристально смотрю на Лео, вдруг он проснется: в понедельник я уезжаю, а он еще ничего не знает, нужно срочно поговорить с ним. Тихонько дую ему на щеку.
— Ммм… Ты чего?
— Привет, доброе утро.
— Доброе… который час? — бормочет спросонья.
— Девять пробило.
— Так рано! Будь умницей, Тони, — причитает, отворачиваясь и натягивая на голову простыню.
Отсыпается он только в субботу, потому что в воскресенье всегда что–то случается: ночные субботние ограбления, приезжие футбольные фанаты, даже убийства происходят чаще на рассвете воскресенья. В другие дни он встает в семь, намного раньше меня.
— Мне нужно с тобой поговорить.
Медленно, как черепаха из панциря, он вытягивает голову из–под простыни. Поднимает одно веко. Глаз, совершенно ясный, уставился на меня.
— Что–то случилось?
— В понедельник я еду в Феррару на несколько дней.
— В Феррару? Зачем? — теперь открыты оба глаза. Щурится, как от яркого света, и пристально смотрит на меня снизу вверх. Нависаю над его подушкой, опершись на локоть, волосы щекочут ему нос, а он не шевелится, замер, как кот, внезапно ослепленный светом фар — шерсть дыбом, уши прижаты.
— Я должна расследовать кое–что семейное.
Лео медленно поднимается и садится, прислонившись спиной к изголовью кровати. Глаза распахнуты, смотрит на меня с недоумением.
— Что ты должна сделать?
— Я же тебе сказала.
— На шестом месяце беременности?
Он привык к моим выездам по работе. Небольшое издательство в Болонье опубликовало три моих детективных романа, и время от времени я собираю материал для своих книг прямо на месте преступления. Так мы и познакомились. Но теперь, ожидая Аду, я всегда сижу дома.
— Вот именно, пока могу, надо съездить.
— Куда ты собралась?
— Никак не проснешься? В Феррару, родной город моей матери. Это совсем рядом.
— Тогда почему бы тебе не ночевать дома?
От Болоньи до Феррары меньше часа на поезде, но для меня это как расстояние до Луны.
Когда я была маленькой, мы ездили туда на кладбище, последний раз лет двадцать назад.
Почему–то мама никогда не рассказывала мне о Ферраре, о своей семье. Я знала только, что все умерли. Я думала, что ей больно вспоминать, и в какой–то момент перестала расспрашивать. Но три дня назад…
— Мне нужно время, будет лучше, если я поживу там.
Теперь он окончательно проснулся. Сбрасывает ноги с кровати, говорит:
— Я сейчас, ты мне все объяснишь.
Пока он в туалете, я раздергиваю занавески и открываю ставни. Наша спальня выходит на балкон, в ней всегда много света. Начало марта, еще холодно, растения в горшках окоченели. Натягиваю свитер на ночную сорочку и чувствую, как шевелится Ада. Гинеколог сказала вчера, что малышка размером с большой банан. «Как огромный банан», — именно так и сказала.
Снова залезаю под одеяло, я замерзла. Люблю разговаривать в постели, как будто висишь на облаке или сидишь в лодке, этакая вольная гавань. Почему–то вспомнились детские стихи Стивенсона: Моя постель — как малый челн…[1]
Как знать, полюбит ли Ада книги. В детстве я прочитывала по книге в день, Альме приходилось упрашивать меня: брось читать, пойди погуляй, не будь такой «зацикленной». Я не знала, что означает «зацикленная», этого не было в моих книгах.
Никогда не могла понять, почему на меня, единственную из всего класса, кричат за то, что я слишком много читаю. Только теперь, когда мама рассказала мне о своем брате, я осознала, какой ужас испытывала она ко всякой зависимости.
Вот и Лео. На нем голубая пижама в рубчик, «стариковская». Даже мой отец, которому лет на тридцать больше, чем Лео, не носит такую.
Лео старше меня, был женат, но детей у него нет. Когда мы познакомились, он как раз разводился с Кристиной.
— Какое счастье, что он достался тебе! Мне было бы жаль, если б он остался один, — сказала она в нашу первую встречу. Кристина — судья, очень умная, решительная и вечно занятая. Мне она сразу понравилась.
— Ей важна только работа, — сказал как–то Лео. — Семья для нее далеко не на первом месте, даже не знаю, зачем она за меня вышла.
— А ты зачем на ней женился? — спросила я.
— Я вообще не понимаю, что я делал до нашей с тобой встречи, так что даже не спрашивай. Что–то делал, так, от нечего делать, как все. Это ты, ты удивительная.
Я люблю Лео, хоть он и не читал Стивенсона. «Поэтому ты и не понимаешь, — сказала я ему, — если не читаешь, ничего не поймешь». А он ответил: «Я же работаю в полиции. Здесь близко видишь то, о чем пишут в романах: любовь, измену, смерть».
— Так что там за история с Феррарой? — спрашивает он, забираясь в постель, поворачивается на бок и кладет ручищу на мой живот.
— Эта история касается моей мамы. Рассказать? — отвечаю, накрыв его руку своей.
— Валяй, — говорит Лео. Он надел очки и наблюдает за мной, во взгляде любопытство и неподдельное внимание, как тогда, когда я впервые пришла к нему на работу в полицейский участок четыре года назад. Я еще подумала, что ни разу не встречала мужчину, который смотрел бы с таким участием. Обычно так на тебя смотрят женщины.
Альма
Бенетти носил сапоги без каблуков, и от него всегда пахло чем–то кислым. Казалось, он знал что–то мне неведомое, — этим и привлекал и отталкивал одновременно. Появлялся редко, в такое время, когда на улице никого не было. Как–то в воскресенье, в два часа дня, позвонил нам в домофон, попросил кусочек лимона, и моя мать, фармацевт, конечно, поняла, зачем, но лишь сокрушенно покачала головой: «Бедняга»… Запретить дружить с ним — об этом не было и речи, мама верила нам.
Не знаю, что взбрело мне в голову в тот вечер. Было девять, я помню, но еще светло, белый мрамор собора ярко выделялся на фоне стен, обагренных закатным солнцем. Микелу мы не дождались, возможно, ей пришлось помогать родителям в баре. — А что, если и нам попробовать, разочек? — неожиданно предложила я Майо, кивнув головой в сторону Бенетти.
Прежде я никогда об этом не думала.
И он тоже, я уверена.
Он сразу понял, что я имею в виду. Распахнул руки, запрокинул голову, скосил глаза и ответил: ''Отчего ты бежишь?»
И мы засмеялись.
Я всегда была уверена, что есть тайны, которые нельзя раскрывать. И никогда не рассказывала об этом Антонии, чтобы не заразить ее своей болью.
Даже Франко, мой муж, не знает подробностей того, что произошло. Он знает, что мой отец покончил с собой, но не в курсе, как именно. Знает, что моя мать серьезно заболела, что наша семья развалилась и что я всему виной.
Он мне очень помог, но настоящим спасением стала для меня Антония: мне было двадцать, когда она родилась. Теперь, когда она сама вот–вот станет матерью, настало время рассказать ей все.
Я никогда не говорила с ней о том, как пропал ее дядя, еще и потому, что и сама не знаю как.
Был январь. Как–то утром в воскресенье мама вошла в мою комнату, села на кровать и положила руку мне на плечо.
Накануне я была на вечеринке — ничего особенного, скука смертная, — в час ночи поехала домой на велосипеде, прорываясь сквозь густой туман. Перед сном, чтобы компенсировать зря потраченный вечер, дочитала роман «Великий Тэтеби». С тех пор, как я стала гулять одна, без Майо, все казались мне занудами.
В два, перечитав несколько раз последнюю строчку: Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением, а оно все сносит и сносит наши суденышки обратно в прошлое[2], я погасила свет. Положила книгу на пол рядом с кроватью и заснула, под впечатлением от прочитанного. Я чувствовала себя очень несчастной, но не могла вообразить, что настоящее горе совсем скоро войдет в мою жизнь.
В воскресенье мы с Майо обычно спали долго. В тот год мне предстоял выпускной экзамен, и гуляла я только по субботам, а он исчезал из дома каждый вечер и возвращался далеко за полночь. Отец, который обо всем тревожился, казалось, ничего не замечал. Может, он думал, что для парня это нормально, ничего плохого в маленьком городке с ним не случится. Мама что–то подозревала, но молчала. Она беспокоилась только об отце.

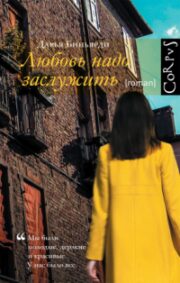
"Любовь надо заслужить" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовь надо заслужить". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовь надо заслужить" друзьям в соцсетях.