Ноги! Она смотрела на них, как на чудо воскрешения Лазаря, по мере того как они по очереди восставали из мыльной пены. Просто лапы гориллы! Немедленная эпиляция! Она попыталась произнести это слово вслух, но оно оказалось на удивление трудным. Верити потянулась к бритве. Это любимая бритва Марка, которую он забыл, уходя, и которую у нее не поднялась рука выбросить. Она начала медленно и осторожно сбривать нежелательную поросль. Острая бритва, очень острая. Как ни старалась Верити крепко держать ее обеими руками, руки слушались плохо. Вода стала розовой. Верити удивилась: с чего бы это? Нужно добавить воды, решила она и открутила кран. При виде журчащей струи ей снова захотелось пить. Напившись, она сползла пониже, согревшаяся и довольная. Вот отдохнет всего минутку — и продолжит наводить красоту. Для него.
Ванна так и не оправилась от полученной травмы. Если ванны в принципе способны испытывать «кошмар на улице Вязов», так это произошло именно с ванной Верити.
Явившийся полчаса спустя Марк увидел картину, которую истолковал как самоубийство бывшей любовницы. Поскольку на его звонок дверь никто не открыл, он достал из цветочного горшка ключ и отпер ее сам. Потеряв работу, он пребывал в отчаянии, ему было нужно, чтобы кто-нибудь о нем заботился. За этим-то он и пожаловал к Верити, но нашел ее… в луже крови. Если даже ванна ощущала, что хозяйке нужна неотложная помощь врача, это было ничто по сравнению с тем, что испытал Марк. «Бабы, сволочи!» — ругнулся он, выволакивая Верити из ванны и начиная делать ей искусственное дыхание. Она пришла в себя и ответила ему тем единственным способом, каким женщины отвечают на интимные прикосновения любовника, — закрыла глаза и вернула ему поцелуй, хотя и отметив, что выражение лица у Марка не такое, каким следовало бы быть в подобных обстоятельствах.
Джилл бросила письмо на каминную полку, где уже лежала открытка из Парижа. И то и другое — от Маргарет. На обратной стороне открытки было написано: «Наш утешительный приз за несостоявшееся катание на лыжах — и это оказалось гораздо лучше». Джилл провела пальцами по открытке, потом по письму. Хотя Маргарет явно старалась ее повеселить, она не находила забавным рассказ подруги о том, что случилось с Верити. Это слишком напоминало ее собственные нынешние переживания. Уже апрель, а жизнь так и не наладилась. Аманда до сих пор с ней почти не разговаривала, лишь в соответствии с дочерним долгом соблюдая приличия, сообщала новости о внуках, но в подтексте явно звучал укор. Джайлз собирался скоро приехать, однако, если в прошлом году Джилл ждала сына с нетерпением, сейчас его приезд ничего для нее не значил, так же, как ничего не значили бессмысленно текущие дни, потому что она чувствовала себя бесконечно несчастной. Джилл подошла к креслу у окна. Именно в нем она теперь предпочитала проводить большую часть времени. Поджав колени и уткнувшись в них подбородком, наполовину скрытая занавеской, она наблюдала за переменами, происходящими снаружи. Принимать в них участие она могла только на таком отстраненном уровне. Джилл чувствовала себя разбитой, воспринимала действительность как обман, источник страданий, считала, что жизнь требует от нее слишком многого. Как и она ждала слишком многого от жизни.
Почему она не сожгла открытку, она и сама не знает. Быть может, какой-то добрый дух подсказал ей, что в существовании этой открытки есть некий смысл, что когда-нибудь она сможет без боли смотреть на этот бульвар с его кафе и отдыхающими парочками, на маленькую красную стрелку, которую нарисовала Маргарет, чтобы обозначить окно их номера в отеле. А пока открытка лежала на каминной полке как напоминание о самом мрачном периоде в жизни Джилл. Уверенная, что такого тяжелого времени у нее никогда еще не было, она была готова молиться каким угодно богам, чтобы в будущем никогда не погрузиться снова в такой мрак. С тех самых пор Джилл ни разу не заходила в гостевую спальню. Розовое покрывало, конечно же, до сих пор лежало на кровати скомканное, его края кручеными жгутами-змеями свисали по краям, будто бы издеваясь над хозяйкой. Там все началось, там и закончилось. Надо было им встречаться в отеле. Тогда у нее по крайней мере осталась бы комната, которая напоминала бы лишь о двух настоящих, счастливых, не тайных любовниках, а не о ее собственной эрзац-попытке завести роман. Даже не о попытке — о провале. Маргарет со своим другом, во всяком случае, реально любили друг друга в этой комнате. Теперь она это точно знала. И Джилл не надо было пытаться вступать в состязание с подругой. Никогда.
И почему она тогда, в первый раз, не послушалась своего внутреннего голоса? Ведь в то время она еще не слишком увязла, могла отвергнуть предложение «веселого, приятного секса» и идти своим путем. Так нет же. Слышала, но не слушала. А не слушала, потому что не хотела услышать.
«Это просто любовная связь, — так он сказал. Зачем же тогда было гладить ее по щеке, ласкать грудь, говорить нежные слова? — Всего лишь приятная и заслуженная премия за однообразие наших унылых жизней, временное отвлечение. Ты замужем, я женат: И мы оба останемся там, где мы есть. Мы ведь оба это понимаем, правда?»
Джилл позволила ему поцеловать ее, кивнула и сказала, что да, конечно, она понимает. Двое взрослых людей решили просто немного себя побаловать и позабавиться среди здешних холмов… Но на самом деле она так не думала и лишь надеялась, что ей удалось скрыть от него свои истинные чувства: боль несбывшихся ожиданий и чудовищное, чудовищное, чудовищное одиночество, которое она испытывала, когда его не было рядом. Она-то знала, что это Любовь и что ей выпало нести свой крест одной. Все остальное меркло в свете этой любви.
Дэвид, ее дорогой, преданный, ничего не подозревающий муж, стал для нее не более чем досадной помехой, чем-то, что приходилось принимать во внимание, но в общем — покладистым рогоносцем. После его отъезда в Японию их свидания в совершенно пустом доме, к ее радости, участились, раза два он даже оставался на всю ночь, так что она могла представить себе, каково бы это было, если бы они жили вместе. Даже когда он признался, что до нее у него были другие, она не расстроилась, потому что те были в прошлом, а она, Джилл — вот она, здесь, сейчас, живая и полная решимости остаться с ним навсегда. Так что ни для каких новых, будущих женщин нет места. Она и была его единственной Женщиной Будущего и никогда никому его не отдаст.
Джайлз и Аманда почти перестали что бы то ни было значить для нее. Аманда! Бедная, бедная ее дочь. Бедные, бедные внуки, их бабка становилась почти невменяемой и заболевала от горя, когда любовник не звонил и не приезжал хоть один день. В новогодний сочельник они, ее дети, зашли на кухню. Но она не уделила им никакого внимания, сославшись на то, что нужно срочно отвезти в магазин сырные пироги, о которых она совсем забыла. Так что сейчас ей необходимо уехать, но она непременно вернется к ужину, сегодня магазин открыт допоздна — ложь, но кто стал бы проверять, ей ведь все верили, и от этого обман становился вдвое более постыдным. Пироги в противнях, — четыре штуки — стояли на скамейке, и она попросила детей помочь перенести их в машину. Детям было восемь и десять лет — всего восемь и десять. Когда младший споткнулся во дворе и уронил свою ношу, она орала, визжала от ярости, накопившейся за долгое время, и лупила его свободной рукой по затылку до тех пор, пока Аманда не выскочила на мороз полураздетая, потому что в тот момент как раз переодевалась. Ее дочь стояла, дрожа от холода и обиды, закрывая руками свое дитя, защищая от его собственной бабушки, которая брызгала слюной и хрипела от гнева. Но все же Аманда приняла ее извинения. Конечно, это же Аманда. А Джилл все равно уехала — наркотик был слишком силен. Сев за руль, она пригладила волосы, вытерла губы, подкрасилась. И в его дом прибыла такой, словно никаких забот в ее жизни не было. Его жена встретила ее и пригласила войти с удивленным, но, как всегда, приветливым видом.
— Мы завтра уезжаем, — солгала Джилл, — а я забыла вам это привезти. Простите, что тревожу вас в такой…
И тут она заметила. Никаких гостей, на которых он ссылался, в доме не было. Он сидел на полу возле камина, вокруг были разбросаны карты. На сдвинутом в сторону сервировочном столике виднелись тарелки, приборы и остатки ужина. Ужина на двоих. Раннего ужина. Рядом с картами стояли стаканы с бренди. На нем были темно-бордовые кожаные тапочки с его вытканными золотом инициалами. Какая пакость! Ей хотелось их поцеловать.
Его милейшая жена предложила ей выпить. Джилл отказалась. Его милейшая жена спросила, куда они завтра уезжают. Джилл сказала — в Марокко, первое, что пришло в голову, быть может, из-за этих самых тапочек.
— Ах, — заметила его милейшая жена, — когда дети уезжают, так приятно расслабиться. — Она застенчиво улыбнулась, и на ее пухлых, пышущих здоровьем щеках появились ямочки. — Вот и мы тоже… — И широким жестом обвела разбросанные карты и своего сияющего улыбкой мужа; ах, как хорошо он изображал вежливую приветливость случайного знакомого, никто бы никогда ни о чем не догадался. — Это у нас первый новогодний сочельник без детей, и мы решили никого не приглашать, просто побыть вдвоем. — Ее улыбка стала шире. На ней было нечто вроде восточного халата, шелковое черно-красное одеяние. Соблазнительное. Сегодня ночью он с нее его снимет, думала Джилл. Снимет, снимет, снимет…
Бедная Аманда.
— Ты должна показаться врачу, — сказала ей дочь.
Когда Джилл вернулась, Аманда уже укладывала вещи в фургон, собираясь ехать домой. Неблизкий путь, уже вечер, но она и слышать не желала о том, чтобы остаться до утра. Как хотелось Джилл броситься к дочери, обнять, рассказать ей все, найти понимание и прощение. Но она не могла. Ругала себя за эту неспособность и за то, что недостаточно настойчиво уговаривает дочь остаться, но ничего не могла с собой поделать. Злость на весь мир — заразная болезнь, она выражается в том, что больному хочется, чтобы и все вокруг так же, как он, злились на весь белый свет. И Аманда уехала злая, очень злая. Понадобится немало времени, чтобы восстановить отношения с дочерью, да и неизвестно, удастся ли. И Джилл потребуется очень много времени, чтобы внуки, уже убаюканные и мирно спавшие в своих дорожных кроватках, снова почувствовали к ней доверие. Только Дэвид, который не был свидетелем той сцены, но знал, что она была безобразной, нашел в себе силы обнять жену, глядя на удаляющиеся габаритные огни фургона. Джилл склонила голову ему на плечо, и так, обнявшись, они вернулись в дом, где она позволила ему приготовить ей ванну, а потом принести стакан бренди и уложить ее в постель. На следующий день, когда приехал врач, попросила его прибегнуть к гормоновосполняющей терапии. Казалось, это удовлетворило всех.
Скоро должен был приехать Джайлз, но Джилл это мало волновало. Маленькое овощеводческое хозяйство, которое она раньше так любила, тоже постепенно ускользало из ее рук. Наступало важнейшее для полеводства время, а у нее теперь не было ни Сидни (он отнял у нее даже лучшего работника, она позволила и это), ни охоты самой заниматься землей. Весенняя капуста — вот во что она превратилась, в весеннюю капусту.
Последние душевные силы покинули ее в той самой комнате наверху, когда она, коленопреклоненная, обнаженная, рыдающая, вцепившись в его колени, прижимая их к своей груди, допытывалась:
— Ну почему мы не можем поехать в Париж? Моя подруга была там. Вот посмотри, посмотри, что она мне прислала. — Джилл метнулась вниз и принесла открытку.
— Мне кажется, что мы зашли слишком далеко, — сказал он, одеваясь. — Думаю, нужно заканчивать.
— Всего несколько дней. Пару ночей в этом восхитительном гнезде порока, в этом французском отеле. Ну почему «нет»? — Джилл знала: если он согласится, она его заарканит. Может быть, хотя бы потому, что все станет известно и ему придется бросить пухленькую супружницу с этой ее буколической улыбкой и навечно остаться с ней.
Он отрицательно покачал головой, чуть коснулся губами ее лба и ушел, оставив Джилл корчиться на кровати, в отчаянии прижимая к себе скомканное розовое покрывало.
Нет, история Верити ничуть ее не развеселила. Ничуть. Маргарет в своем защитном коконе любви, в своем законном счастье многое видела в неправильном свете.
Глава 7
В последний вечер мы немного выпили. Пожалуй, даже слегка напились. Думаю, это было естественно и правильно, не так ли? Мы сидели друг против друга за моим кухонным столом и распивали шампанское. Мыслями он был уже далеко, и разговор вертелся в основном вокруг его путешествия: что он найдет в Никарагуа по приезде, будут ли доходить в Англию его письма, не станет ли наш сегодняшний ужин на много дней вперед его последней приличной трапезой, потому что он может себе вообразить, как кормят там на внутренних рейсах. За предыдущие несколько недель мы уже сказали друг другу почти все самое важное: происходило то, что должно было произойти, и мы всегда знали, что это произойдет. На вырывавшийся порой вопрос: «Что же мы сделали?» — всегда следовал спокойный ответ-напоминание: именно то, что собирались. Этот короткий отрезок времени доставил нам много радости, но то была лишь фантазия, своего рода театральный спектакль, нами самими совместно срежиссированный, во время которого публика оставалась в темноте, а теперь в зале снова зажигается свет.

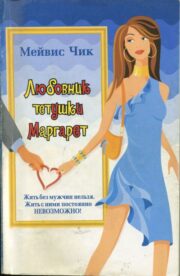
"Любовник тетушки Маргарет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовник тетушки Маргарет". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовник тетушки Маргарет" друзьям в соцсетях.