Манодората потупился, помолчал и снова спросил:
— Значит, этот художник, Луини, уехал? — Звучало это скорее как утверждение.
— Да. Уехал, — подтвердила Симонетта, очень стараясь, чтобы голос у нее не дрогнул и не сорвался.
Манодората с важным видом кивнул. Она понимала, что ей нет нужды что-то ему объяснять или спрашивать, откуда ему известно о происшествии в церкви, к которой он не имеет ни малейшего отношения. Симонетта знала, что судить ее Манодората никогда не станет. Он ведь сам уверял ее, что она непременно полюбит снова, и оказался прав. Хотя и не предупредил, что это будет куда больнее, чем в первый раз. Его серые глаза были так похожи на те, другие глаза, но все же были совсем не такими: в них словно читались слова сочувствия и понимания.
— Это хорошо, что он уехал, — промолвил после долгого молчания Манодората. — Кардинал — человек мстительный. Его жажда мщения не знает пределов. Он умеет ненавидеть и выжидать.
Симонетта плотнее закуталась в плащ, от его слов, точно холодом, повеяло угрозой.
— А ты, синьор, хорошо знаешь этого человека?
Манодората вздохнул как-то обреченно, так в последний раз вздыхает ветер в парусах, прежде чем они окончательно опадут.
— О да! Ведь это он отнял у меня руку. — Глаза Манодораты расширились, словно от боли. — Да, — продолжал он, — поистине для каждой истории свое время, теперь, видно, пришло время и для этой. Тебе, синьора, следует знать, что со мною тогда случилось. — Манодората поднял с пола подгнивший орех миндаля и ловко очистил его, действуя одной рукой и не переставая говорить. — В Толедо три года назад кардиналом был Габриэль Солис де Гонсалес. И он же стал создателем и верным служителем некой новой организации, которая называлась «Святая палата».
Судя по выражению лица Симонетты, это название ей ничего не говорило, и Манодората пояснил:
— У нее есть и другое, официальное название: инквизиция.
Показалось ей это или же Манодората невольно понизил голос, произнося это внушающее ужас слово?
— Толедо — мой родной город, — продолжал он. — Я там вырос, стал банкиром и ростовщиком, пользовался самой доброй репутацией. К тому времени, о котором пойдет речь, я уже женился на Ребекке, а Илия и Иафет были еще совсем маленькими. — Манодората улыбнулся этим воспоминаниям, но улыбка быстро исчезла с его лица. — Мы очень любили друг друга, но мир вдруг нас возненавидел. Нас заставили перебраться жить в Худерию — это такое особое место, которое венецианцы называют гетто.
«Вроде нашей Еврейской улицы в Саронно», — подумала Симонетта.
— Но этого им показалось недостаточно. Согласно новым законам инквизиции, я должен был либо обратиться в христианство, либо покинуть страну.
Симонетта охнула. Она и представить себе не могла, как же он должен был страдать, когда его заставляли пойти на такой шаг. Манодората, услышав ее вскрик, сказал, словно оправдываясь:
— Да уж, тут мне нечем гордиться. Хоть я и согласился принять христианство, но это было как бы напоказ, дома мы продолжали отправлять наши религиозные обряды. Но пойми, мне необходимо было как-то защитить свою семью и свой дом!
Симонетта в полумраке подвала протянула руку и коснулась его плеча.
— Ты ошибаешься на мой счет, — сказала она, — если думаешь, что я тебя осуждаю. Я осуждаю только тех, кто силой заставил тебя сделать такое.
Манодората кивнул, помолчал немного и снова заговорил:
— Они заставили нас дать мальчикам христианские имена, и мы выбрали имя Евангелиста для Илии и Джован Пьетро — для Иафета, поскольку эти имена, по крайней мере, были созвучны их собственным. Мы пытались жить как христиане и казаться таковыми для внешнего мира, однако нас по-прежнему подвергали насмешкам и издевательствам. Нас называли marranos. Свиньи. — Манодората сокрушенно покачал головой. — Но Инквизиции и этого оказалось мало. Меня арестовали и подвергли допросу. И сделал это тот самый человек, который теперь ищет твоего, синьора, возлюбленного. Габриэль Солис де Гонсалес. Он тогда пользовался особой милостью у Святой палаты, поскольку занимал самую жесткую позицию в отношении моего народа.
Теперь уже Симонетта сокрушенно покачала головой, думая: какая злая судьба принесла сюда этого кардинала? Почему он опять оказался на пути того, кому и так принес немало горя и страданий? Однако у нее не хватило времени поразмышлять над тем, отчего это наш земной шар оказался так мал, ибо снова зазвучал голос Манодораты с характерным скачущим акцентом, похожим на зловещий прибой:
— Мне было предложено доносить на других представителей моей расы, на тех, кто тоже перешел в христианство, прикрывая им, точно маской, свое иудейское вероисповедание. И вот тут я понял, что достиг конца того страшного пути, на котором мне пришлось — ради спасения своей семьи — отказаться не только от большей части собственных убеждений и верований, но и от собственного достоинства. Я понимал, что, предав свою веру, я лишился места в сердце и лоне Авраамовом. Но я сделал это на свой страх и риск. Я сам все для себя решил, но решать за других я права не имел. И, посмотрев в его бледные дьявольские глаза, я сказал, что никогда не стану делать то, о чем он просит. — Манодората помолчал, прежде чем досказать страшный конец этой истории, а потом произнес резко и отчетливо, словно отрубая мечом каждое слово: — И тогда они сожгли мне руку.
Симонетта затаила дыхание.
— Я помню жуткую вонь моей горящей плоти и то, как все ярче разгорались глаза Гонсалеса, они пылали ярче того огня, который пожирал мою руку. Меня отпустили только потому, что поняли: я все равно никогда ничего им говорить не буду. Но однажды ночью ко мне пришел мой друг Абиатар и предупредил меня, что кардиналу мало моей руки, ему нужна моя жизнь. Он и отпустил меня только потому, что надеялся с моей помощью выследить других богатых евреев. И мы уже на следующий день сели на корабль, направлявшийся в Геную. А когда мы высадились на итальянский берег, я попросил флорентийских мастеров сделать мне руку из золота, словно бросая вызов своему прошлому. А потом мы поселились в Саронно, в этом тихом месте, надеясь, что здесь к нам, может быть, отнесутся более терпимо. Так оно сперва и было.
Симонетта была потрясена до глубины души.
— Неужели ты, синьор, называешь терпимым отношением то, что испытал здесь?! — воскликнула она. — Ведь даже я сама… — она не договорила.
— Слова? — На устах Манодораты мелькнула тонкая усмешка. — Оскорбления? Плевки невежественных людей? Милая синьора, подобные вещи не способны по-настоящему ранить. Для таких, как я, терпимое отношение — это когда ты можешь прожить день без побоев и сломанных костей. Когда ты возвращаешься домой и дом твой цел, а не объят пламенем. Когда ты видишь, что собственность твоя цела, а не украдена, что твоя жена и дети могут спокойно пройти по улицам и их никто не оскорбит и не изнасилует. Да, я считаю, что в Саронно к нам относились вполне терпимо. До того дня, пока злой ветер не принес сюда этого кардинала, который снова встал на моем пути.
— Как? — Симонетта сдвинула брови. — Неужели он все еще здесь?
— Не он, — коротко усмехнулся Манодората. — Он вернулся в свой миланский дворец, к роскошной и покойной жизни, но вонючий след после себя оставил. Занимаясь поисками твоего друга, он выяснил, где мы живем и чем занимаемся, а также убедился, что немало евреев живет и работает в его епархии. Не сомневаюсь, он не даст нам здесь надолго задержаться.
Симонетта молчала. Похоже, теперь они оба стали изгоями. Она хорошо помнила, как смеялись над ней жители города, когда на прошлой неделе она бежала, точно слепая, по улицам, а один или двое даже плюнули ей под ноги. До сих пор она просто не могла понять, что каждый день приходится терпеть Манодорате, теперь ей многое стало ясно.
— В общем, я пришел, чтобы сказать тебе все это, синьора, — прервал ее размышления Манодората. — И если ты решишь остаться здесь, мы бы успели кое-что предпринять, дабы тебя обезопасить. Ибо я, возможно, вскоре уже не смогу помогать тебе.
— Неужели… Не хочешь же ты сказать, что Гонсалес станет тебе вредить?
Манодората, разумеется, именно это и имел в виду, но все же попытался ободрить Симонетту:
— Разумеется, нет. Он же не знает, что здесь живу именно я. Скорее всего, он попытается отнять собственность у моих соотечественников, евреев, или же помешать нам заниматься здесь торговлей. Итак, — в голосе Манодораты зазвучали деловые нотки, — наш разговор завершил полный круг. Скажи, ты намерена здесь остаться?
Симонетта, точно завороженная, не сводила глаз с миндального орешка в руках Манодораты. Этот орех, казалось, воплощал для нее все семейство Лоренцо, ставшее и ее собственным, всю ту жизнь, которая некогда была такой счастливой здесь, на вилле Кастелло.
— Да, — сказала она, и следующие ее слова прозвучали как эхо того, что она говорила ему год назад: — Мне больше некуда идти. И ты, синьор, лучше кого бы то ни было знаешь, на что способен человек, чтобы сохранить свой родной дом.
— Хорошо, — понимающе кивнул Манодората. — Тогда завтра я пришлю сюда целую толпу работников-евреев, которые принесут с собой топоры и вырубят все эти миндальные рощи. А землю мы возделаем и превратим в плодородные поля. Я знаю арабские приемы возделывания почвы, а также знаком с севооборотом, и мы, поочередно сменяя те или иные культуры, сделаем так, что все поля каждый год будут давать приличный урожай.
Симонетта молча кивнула, и Манодората, зашвырнув орех куда-то в темноту, встал и собрался уходить.
Орех, отлетев, со звоном стукнулся в темноте обо что-то стеклянное, и собеседники вопросительно переглянулись. Симонетта, с некоторым трудом поднявшись с пола, неслышной тенью скользнула в темный угол и вскоре вновь появилась оттуда, держа в руках некое странное устройство, состоявшее из бутылей, соединенных трубками. Манодората нырнул в тот же темный угол и обнаружил там жаровню и медный поднос.
Симонетта в изумлении поставила неведомый прибор на пол и спросила:
— Что это может быть?
— Обыкновенный перегонный куб! — рассмеялся Манодората. — Кто-то варил здесь весьма крепкое зелье! — Он обнюхал одну из бутылей. — Ага, граппа! А здесь? — Он содрал пробку с горлышка глиняной амфоры, понюхал и тут же отпрянул, словно ему что-то ударило в нос: — Да это, пожалуй, коньяк!
— А как эта штуковина действует? — Симонетта рассматривала старинное устройство. Оно было холодным и липким на ощупь.
— Это очень древнее искусство, но, к сожалению, мне почти не знакомое. Впрочем, принцип, по-моему, заключается в том, что вот сюда помещается сок с мякотью…
— Сок из чего?
— Крепкие напитки можно делать из чего угодно. Граппа, этот дьявольский напиток, например, делается из виноградных косточек, которые нагревают снизу, пока не начнет конденсироваться влага… и не пройдет вот через этот фильтр…
— Но как эта штука здесь очутилась? Это уж точно не Лоренцо! Он любил только вино.
— Я бы, пожалуй, спросил об этом его оруженосца, — сухо усмехнулся Манодората. — Судя по его виду, он всегда был изрядно навеселе.
Симонетта, наверное, тоже улыбнулась бы, но события последней недели и то, как жестоко Грегорио обвинял ее, публично раскрывая все ее грехи, были еще слишком свежи в памяти. Взяв в руки амфору, она хотела было отбросить ее прочь, но Манодората успел схватить Симонетту за запястье.
— Я, конечно, не врач, синьора, но на твоем месте я бы лучше прихватил эту бутылку с собой в спальню и там выпил, чтобы хоть одну ночь как следует выспаться. Ты ведь толком не спала с той самой злополучной мессы, если не ошибаюсь?
Да, это действительно было так. Спать Симонетта не могла, потому что все время думала о Бернардино и о том, как заставила его уйти. Пока она размышляла об этом, Манодората потихоньку ушел, и она, оставшись в одиночестве, долго смотрела на амфору и недоуменно пожимала плечами, прежде чем все-таки взяла ее и понесла к себе в спальню. Но, уже поднимаясь по лестнице из подвала, она вдруг остановилась, обернулась, и то миндальное ядрышко, которое сперва очистил, а потом отшвырнул Манодората, вдруг звездочкой сверкнуло в темноте… Симонетта снова спустилась вниз, поставила амфору на пол и, встав на колени, стала искать это ядрышко, заодно собирая другие орехи. И, занимаясь этим, впервые с того злополучного воскресенья Симонетта позабыла о своем ноющем сердце.
У нее появилась некая идея!
ГЛАВА 26
ПУТЬ, УКАЗАННЫЙ ДЕРЕВОМ
Нонна сидела в новом кресле-качалке у очага, покачиваясь на изогнутых полозьях и удивляясь удобству, какого никогда не испытывала. Молодой мужчина, которого она уже считала родным, задумчиво смотрел на нее, одной рукой обхватив себя за талию, а на вторую удобно пристроив подбородок. С пояса у Сельваджо свешивался кусок грубой ткани для полировки — почти так же опоясывало его и то голубое знамя, когда Нонна с Амарией его нашли. Некоторое время он, прищурившись, изучал свое изделие, потом спросил:

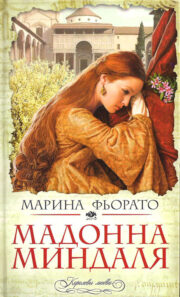
"Мадонна миндаля" отзывы
Отзывы читателей о книге "Мадонна миндаля". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Мадонна миндаля" друзьям в соцсетях.