С утра — ссора. Опять по пустяку. Майтрейи грозится не разговаривать со мной неделю. А я сказал наконец, что пусть, переживу, и от этого сам успокоился и смог поработать. Лилу пришла как миротворец, с вестью, что „поэтесса совсем убита“. Я сказал, что я тут ни при чем и что если Майтрейи так нравятся ссоры… Как банальны женщины! Та же песня у всех, в Европе и в Азии, у глупых и умных, у развратных и невинных…
Вечером — один в кино, с полным удовольствием. За ужином Майтрейи села рядом со мной в потрясающем старинном сари. Заплаканная, молчаливая, чуть притронулась к еде. „Мама“ все поняла. Расцвела, когда я перекинулся с ее дочерью словом. После ужина — короткое „объяснение“. Майтрейи говорит, что я не так ее понял, что она вовсе не пренебрегает любовью и симпатией…
Поединок длился четверть часа. Я сжимал ее запястья. Она очаровательно вырывалась — в этом состоял поединок — ив слезах молилась Тагору. Я был спокоен и хладнокровно испытывал ее, подвергая боли и унижению.
Наконец она была вынуждена признать себя побежденной. Радость, смешанная с горечью: она счастлива, что я — ее победитель, но расстроена, что ее духовный учитель, гуру, не помог ей. И т. д.
Когда мы пошли к ней в комнату, она шепнула:
— Ты сломал мне руки!
Я, не долго думая, взял ее руки в свои и, погладив, поцеловал. В Индии это недопустимо. Узнай кто, ее бы могли казнить. (Прим.: Я преувеличивал.)
После обеда она без слов бросила мне в комнату цветок…
Кинематограф с Майтрейи и другими. Она, конечно, сидела со мной. Когда погасили свет, сказала, что у нее ко мне серьезный разговор. Я отрезал, что сыт по горло этими „сантиментами“, что я их презираю (вранье!). Она потеряла свое величественное спокойствие (Клеопатра?) и распустила нюни. Это меня не тронуло.
Когда мы выходили, она опять было начала всхлипывать. Я сказал только: „Майтрейи!“ — и смолк. В тот вечер она еще раз расплакалась, у меня в комнате, прикрыв лицо покрывалом и без всяких объяснений. Но нашла в себе силы улыбнуться, когда пришли другие.
Опять „выяснение отношений“ с Майтрейи. Сегодня она держалась получше. Плакала только один раз. Зато я разнервничался, стал говорить, что придется уехать. Финал кошмарный, я попросил ее уйти из моей комнаты, бросился на постель, изображая приступ неизвестно чего. Я был смешон. Пообещал Майтрейи, что мы снова „станем друзьями“. Какой болван! Зашел со своей идиотской тактикой в такие дебри вранья и „признаний“, что выглядел пошляк пошляком, докатился до „сцен“ и пр., и пр., а она сохраняла завидное спокойствие. Сказала, что и ее часть вины есть в наших сентиментальных „шутках“. Но с этим должно быть покончено, будем снова друзьями.
Ночь.
Ох! Но все не так просто. Я люблю ее, очень и очень, — и боюсь. Она сказала, что мучается оттого, что причинила мне зло.
Мне страшно, но и весело тоже. Душа не иссохла от всех этих новых и нерешенных проблем. Я могу еще быть влюбленным со всей страстью, и притом без сентиментальности. Но далась же мне, в самом деле, эта сентиментальность, не все ли равно?
Я влип? Доигрался? Сегодня с утра до позднего вечера я был „счастлив“, если можно этим стертым словом обозначить ни с чем не сравнимый наплыв мажора, жизненных сил, аппетита к жизни и игре. Я был готов сказать Майтрейи: „Хочешь быть моей?“ И сейчас готов. Какое счастье быть ее мужем! Очищенным от скверны, ясным…
После обеда разговор с Майтрейи о брачных узах. Я все время представляю себя ее мужем, главой семьи и образцом нравственности. Полная удовлетворенность, покой.
Вечером она говорит мне, что в отчаянии, потому что ей не написал Тагор. Он для нее больше чем гуру, он ей друг, поверенный ее тайн, жених, Бог, может быть, даже возлюбленный. Она признается мне, что никто не подозревает об их связи. Любовь по-индийски! Я ревную? Решил сказать ей, что в нашем браке нет смысла, раз ей так дорог другой. Но, наверное, она и сама все понимает. (Прим.: Ничего она не понимала.) Она заметила, что я надулся и встал в позу. После ужина мы не разговаривали. Прислала мне с Кхокхой записочку, что я ее обижаю. Я не ответил.
Вся эта история то раздражает меня, то развлекает. Влюблен по уши, в голове все время картинки нашей семейной жизни, дети. Теряю массу времени. Очень трудно сосредоточиться. Но от любви не откажусь.
Ночью было землетрясение, хотя меня трясло и без этого. Утром, когда встретил Майтрейи, подарил ей одну ценную книгу.
Сегодня между нами — такие бури, что мне трудно их описать. В двух словах. Майтрейи набросилась на меня с упреками: чего я добиваюсь, моя несдержанность ее компрометирует. Манту и Кхокха уже догадываются и пр. И это все сквозь рыдания. Я не проронил ни слова. Сидел мрачный. Снова поза. В это время на веранде, рядом с моей комнатой, был Кхокха и все слышал. Когда мы его заметили, Майтрейи заплакала еще отчаянней. Написала на краешке листа, что хочет умереть. Для индианки это бесчестье — что Кхокха теперь про нас знает.
Но все же, успокоившись, она прибралась у меня в комнате и поправила букет на столе. Я молчал.
Сегодня, когда я живописал ей распущенность девушек в Европе, она спросила, чист ли я сам, и одной только мысли, что вдруг это не так, было довольно, чтобы она расплакалась. Меня трогает эта яростная, мистическая жажда чистоты.
К вечеру — снова матримониальные разговоры. Майтрейи рассказала, что ее сватают за одного бенгальца, с которым она, конечно, не будет счастлива. Я посетовал, что родился белым (сам себе не очень веря), — дескать, будь я индийцем, у меня было бы больше шансов и пр. Она остолбенела, и тогда я поставил вопрос ребром: почему мы не можем пожениться? Допускает ли она идею нашего союза? Она, все еще остолбенелая, оглянулась — не слышал ли кто меня. Потом стала говорить, что все решает судьба или Бог (я ее перебил: не путает ли она Бога с предрассудками, а она ответила, что Бог свои желания выражает через предрассудки), что, может быть, моя любовь — это только мимолетная иллюзия и т. д. Факт то, что эта любовь, которую я поначалу считал ненастоящей, неважной, надуманной, натолкнувшись на отношение ко мне Майтрейи, в чьих чувствах я нисколько не сомневался (тогда как их вовсе не было, ни ко мне, ни к кому), — эта любовь меня совершенно захватила и несет; ощущение счастья, какого-то роскошного счастья живет на дне души, на краю всякой мысли. Не знаю, как это описать. Серьезно думаю о браке…
С того дня я почти ее не видел. Только иногда слышал сверху ее пение. Я послал ей несколько невинных записочек с Лилу, она не ответила. Чего я только не передумал в первую ночь, потом мысли пошли на спад, потом иссякли вовсе. Я увидел, что могу прожить и без Майтрейи».
VIII
Однажды я встретил на улице Гарольда. Он, как мне показалось, держался холоднее, чем обычно.
— Это правда, что ты женишься на инженеровой дочке? — спросил он среди прочего.
Я покраснел и попытался отшутиться, как всегда, когда попадаю в затруднительное положение, особенно если приходится защищать кого-то мне дорогого. Гарольд пропустил мои шуточки мимо ушей и сказал, что он это узнал в офисе, куда заглянул как-то, чтобы пригласить меня на пикник. Еще он узнал, тогда же, что я собираюсь перейти в индуизм. Он и сам, конечно, грешник и ходит в церковь только из-за своей Айрис, но эта новость его убила. Инженер Сен — настоящий монстр, сказал он мне, они меня приворожили, и мне следует пожертвовать пять рупий «Sisters of the poor»[18], чтобы те за меня помолились.
— А как девочки? — перебил его я.
— Они тебя оплакали, — сообщил он и, помолчав, добавил: — Не знаю, конечно, может, это здорово выгодно — жить в Бхованипоре. Экономишь на квартире, на обедах и в город не показываешься… Что ты хоть делаешь целыми днями?
— Учу бенгальский, к экзамену на provincial manager, — соврал я. — И потом, столько впечатлений, даже не замечаешь, как летит время…
Он попросил взаймы пять рупий, на бал в ИМКА.
— Не соблазнишься? — сказал он напоследок.
Но я не испытывал никакого соблазна. Без всякого сожаления подумал я о годах, проведенных в пансионе «Райпон» на Уэллсли-стрит, о растранжиренных годах жизни. Я смотрел на Гарольда, и никаких приятных воспоминаний не навевали на меня его атлетическая фигура и загорелое лицо с красивыми, обведенными синевой глазами. Чужой человек, а ведь когда-то он был мне товарищ по ночным попойкам с веселыми девушками. Жизнь, к которой я перешел, казалась мне чем-то таким святым, что я не посмел прикоснуться к ней словом. Гарольд пообещал как-нибудь навестить меня и тщательно записал адрес (с тем, вероятно, чтобы одолжить сумму покрупнее).
Дома я застал все общество в столовой за чаем. Там были и Манту с женой, и Кхокха с двумя сестрами (те самые женщины-тени, которых никогда не видно, не слышно). Я вполне откровенно рассказал им о встрече с Гарольдом и о той мерзкой жизни, какую ведут здесь европейцы и евразийцы и какую я сам вёл столько времени. Мои признания пришлись ко двору. Женщины смотрели на меня блестящими глазами и хвалили на своем малопонятном арго, а Манту — как только он умеет — пожал мне руки, прикрыв глаза. Один инженер, заметив, что я преувеличиваю, ушел читать свой неизменный детектив.
Вместе с Майтрейи, Кхокхой и Лилу мы поднялись на террасу. Расположились на коврах, с подушкой под головой и стали ждать вечера, лениво переговариваясь и ища позу поудобнее. Я был занят тем, что старался, как бы невзначай и попристойнее, устроить ноги в сандалиях на балюстраде. За эти месяцы я усвоил весь связанный с ногами церемониал. Например, я знал, что, если нечаянно толкнешь кого-нибудь, надо наклониться и коснуться его ног правой рукой; что никогда нельзя, даже в шутку, изображать пинок. И все такое прочее. Поэтому я и колебался, прежде чем задрать ноги на балюстраду. И тут Лилу сказала что-то на ухо Майтрейи.
— Она говорит, что у тебя очень красивые ноги, белые, как из алебастра, — передала мне Майтрейи, не в силах скрыть какую-то странную зависть и досаду.
Я покраснел — и от удовольствия (будучи некрасивым, я всегда таял от похвалы моей внешности), и от смущения, потому что не знал, как толковать взгляд Майтрейи: она смотрела на мои ноги чуть ли не с обидой. Чтобы нарушить молчание, я стал городить всякую чепуху — что, дескать, подумаешь, ноги, кто их видит, по крайней мере у нас, у белых.
— A y нас все по-другому, — перебила меня Майтрейи, несколько умасленная. — У нас, если ты хочешь показать другу свою любовь, то касаешься его босой ногой. Например, когда я говорю с подругами, мы делаем так. Смотри…
Она, зардевшись, высвободила ногу из-под сари и подвинула ее к Лилу. И тут произошло нечто неописуемое. У меня было впечатление, что я присутствую при самой интимной любовной сцене. Лилу стиснула между лодыжек ногу Майтрейи, трепеща и улыбаясь, как от поцелуя. Это были настоящие ласки: медленное скольжение изогнутых стоп вверх и потом пожатие ими теплой, подрагивающей голени. Я испытывал муки ревности и одновременно чувство протеста против этого абсурдного замыкания на себе женской плоти. Вдруг Майтрейи резко высвободилась и тронула своей ногой ногу Кхокхи. Я еле удержался, чтобы не убежать, видя, как черная лапа мальчишки, заскорузлая от зноя и уличной грязи, принимает, словно жертвоприношение, эту нежную близость. Кхокха скалился, как собака, когда ее гладят, а я жалел, что не вижу глаз Майтрейи — есть ли в них то сладострастие, какое выдавала ее голень при этих ласках.
Я подумал тогда, что смех Майтрейи, который вызывал этот уродец, этот клоун, обозначал тот же акт отдавания-обладания. Позже я вообще стал думать, не существует ли других способов обладания, более изысканных и неявных, чем общепринятые, обладания тайного — через слово, шутку, прикосновение, — когда женщина вся отдается чьей-то телесности или духу и ее берут всю — так, как мы никогда не сможем ее взять, даже в самые недвусмысленные и бурные минуты любви. Еще долго после того я ревновал не к прекрасным молодым людям, поэтам и музыкантам, собиравшимся в доме Сена, с которыми Майтрейи говорила, на которых глядела, которым улыбалась и книги которых любила, а к Манту и Кхокхе, особенно к первому, потому что он, доводясь ей дядей, мог себе позволить пожать в разговоре ее руку, или похлопать по плечу, или потрепать по голове. Эти жесты невинного обладания мучили меня больше, чем любое реальное соперничество. Мне казалось, что Майтрейи не сознает насилия, украдкой совершаемого над нею чужой плотью или чужим духом. Но особенную муку, если уж говорить все, причиняли мне акты духовного обладания: то это был молодой поэт, Ачинтия, которого Майтрейи видела всего раз и с которым говорила только по телефону, когда посылала стихи в «Прабуддха Бхарата»[19]; то один математик, который приходил очень редко и о котором Майтрейи рассказывала мне с энтузиазмом, признаваясь, что ей нравятся высокие мужчины; то — самое болезненное для меня — ее гуру Роби Тхакур. Я очень осторожно пытался намекнуть ей, что нельзя так втягиваться в отношения, но она смотрела на меня с таким искренним, простодушным изумлением, что я махнул рукой. Впрочем, это все происходило уже тогда, когда я получил достаточно доказательств, что мне нечего бояться соперников.

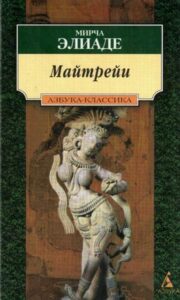
"Майтрейи" отзывы
Отзывы читателей о книге "Майтрейи". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Майтрейи" друзьям в соцсетях.