По мере того, как день свадьбы приближался, все замечали, что жених становится еще мрачнее и молчаливее обыкновенного. Он не выходил из палаты общин, в те дни, когда мог находить там убежище. Свои воскресенья, субботы и среды он наполнял такой разнообразной и непрерывной работой, что совершенно не оставалось времени для тех милых вниманий, которых девушка накануне свадьбы вправе требовать. Он, может быть, через день заходил к невесте, но никогда не оставался там долее двух минут.
— Боюсь, что он не счастлив, — говорила графиня дочери.
— О, мама, вы ошибаетесь.
— Так почему же он так суетится?
— Ах, мама, вы его не знаете.
— А ты знаешь?
— Мне кажется, да. По-моему, в целом Лондоне нет человека, который так бы желал жениться, как Льюддьютль.
— Это меня очень радует.
— Он потерял столько времени, что знает, что должен с этим кончить, без дальнейшего промедления. Если б он только мог заснуть и проснуться человеком женатым уже три месяца, он был бы совершенно счастлив. Самая процедура, толки, зеваки, вот что ему ненавистно.
— Так почему было все это не устроить поскромнее, моя милая.
— Потому, что есть фантазии, мама, которым женщина никогда уступать не должна. Если б я собиралась выходить за красивого молодого человека, мне совершенно не было бы дела до подруг и подарков. Он заменил бы мне все. Льюддьютль не молод и не красив.
— Но он истый аристократ.
— Совершенно справедливо. Он золото. Он всегда будет иметь значение в глазах людей, потому что у него великая душа и он достоин всякого доверия. Но я также хочу иметь какое-нибудь значение в глазах людей, мама. Я не дурна собой, но ведь — ничего особенного. Я — дочь моего отца, это что-нибудь да значит, но этого еще мало. Я намерена начать с того, чтобы ослепить всех своей роскошью. Он все это понимает; не думаю, чтоб он стал мешать мне, раз, что эта выставка кончится. Я все обдумала, и мне кажется, я знаю, что делаю.
Картинка в одном из иллюстрированных журналов, которая имела претензию изображать алтарь в церкви Святого Георгия, с епископом, в сослужении с деканом и двумя королевскими капелланами, с невестой и женихом, во всем их блеске, с принцем и принцессой королевского дома в числе присутствовавших, со всеми звездами и подвязками английского и чужих дворов и особенно с стаей двадцати красавиц, в десять отдельных пар, причем каждое лицо — портрет, очевидно было плодом воображения артиста. Я был там, и говоря по правде, была порядочная давка. Пространство не допускало торжественной группировки, а так как у трех из главных гостей была подагра, то палки этих хромых джентльменов, на мой взгляд, очень бросались в глаза. Стае красавиц не было отведено достаточно места, дамы, кажется, страдали от страшной жары. Что-то рассердило епископа. Говорят, будто лэди Амальдина решилась не торопиться, тогда как епископа ожидали на какой-то митинг, в три часа. Артист, создавая это свое произведение, смело воспарил в сферу идеала. В изображении и описании выставки подарков и свадебного пира, он, может быть, обнаружил более точности. Я там не был. То, что говорилось в статье насчет моложавого вида жениха, в ту минуту, когда он поднялся, чтобы сказать свой спич, может быть, следует приписать поэтической вольности, не только дозволительной, в подобном случае, но похвальной и обязательной. Выставка подарков, конечно, вся была налицо, хотя позволяется сомневаться, чтоб приношения дарственных особ так выдавались в действительности, как на картинке. Два-три иностранных посланника говорили речи, отец невесты также сказал речь. Но самое сильное впечатление произвел спич жениха. «Надеюсь, что мы будем так счастливы, как вы, по доброте, нам этого желаете», — сказал он — и сел. После говорили, что это были единственные слова, которые, во все время торжества, сошли у него с языка. Тем, кто поздравлял его, он только подавал руку и кланялся, а между тем, не смотрел ни взволнованным, ни смущенным. Все мы знаем, как мужественный человек способен сесть и дать себе выдернуть зуб, без всяких признаков страдания на лице, в надежде на облегчение, которое неминуемо последует. То же было и с лордом Льюддьютлем.
— Ну, милая, кончено наконец, — сказала лэди Персифлаж дочери, когда молодую повели переодеваться.
— Да, мама, теперь кончено.
— И ты счастлива?
— Конечно, счастлива… Я получила то, чего желала.
— Но можешь ли ты любить его?
— О, да, мама, — сказала лэди Амальдина. Как часто случается, что ученики превосходят своих учителей! Так было и в данном случае. Мать, когда она увидела, что отдала дочь молчаливому, некрасивому человеку средних лет, дала волю своим опасениям; нельзя было того же сказать о самой дочери. Она обсудила вопрос всесторонне и решила, что может исполнить свой долг, при некоторых условиях, в которых, как ей казалось, отказа не будет. — Он гораздо умнее, чем вы думаете; только он не хочет дать себе труда рассыпаться в уверениях. Если он и не очень сильно влюблен, он любит меня более, чем кого бы то ни было, а это имеет-таки свою цену.
Мать благословила ее и проводила до комнаты, где ожидал ее муж, чтобы сейчас же идти садиться в экипаж.
Молодая удивилась, очутившись на минуту совершенно наедине с мужем.
— Ну, жена моя, — сказал он, — теперь поцелуй меня.
Она бросилась в его объятия.
— Я думала, что вы об этом забудете, — сказала она, когда рука его на минуту обвилась вокруг ее тальи.
— Я и не смел, — сказал он, — прикоснуться во всем этим роскошным, кружевным драпировкам. Тогда вы были разодеты на выставку. Теперь вы такая, какой должна быть моя жена.
— Туалет был неизбежен, Льюддьютль.
— Я и не жалуюсь, моя дорогая. Я говорю только, что вы мне больше нравитесь такою, как вы теперь, особой, которую можно поцеловать, обнять, с которой можно разговаривать, сердце которой можно завоевывать. — Тут она мило ему присела, вторично его поцеловала; а затем они, под руку, направились в карете.
Много карет стояло внутри квадрата, часть которого составляет министерство иностранных дел, но карета, которая должна была увезти молодых, стояла у особых дверей. Пытались было не пускать публику в заповедный квадрат; но, так как деятельность остальных четырех министров не могла быть приостановлена, то этого можно было добиться только до некоторой степени. Толпа, конечно, была гуще в Доунинг-Стрите, но очень много было зрителей и внутри четыреугольника. В числе их был один очень нарядный, во фраке и желтых перчатках, почти в таком же костюме, как если б собрался на собственную свадьбу. Когда лорд Льюддьютль вывел лэди Амальдину из дома и посадил ее в карету, когда муж с женой уселись, разодетый индивидуум приподнял шляпу с головы и приветствовал их.
— Многия лета и полное счастие лэди Амальдине! — крикнул он во все горло. Лэди Амальдина не могла его не видеть и, узнав его, поклонилась.
Это был Крокер — неукротимый Крокер. Он также был в церкви. Теперь-то он мог сказать, нисколько не нарушая истины, что был на свадьбе и получил прощальный поклон от молодой, которую знал с раннего детства. Он, вероятно, думал, что он вправе считать будущую герцогиню Мерионет в числе своих близких друзей.
XXIX. История Крокера
Всего более ценится то, что трудно достается. Две, три лишних бриллиантовых копей, открытых где-нибудь среди неинтересных во всех других отношениях, равнин Южной Африки, страшно понизили бы ценность бриллиантов. Едва ли красота, остроумие или таланты Клары Демиджон были причиной громкого ликования мистера Триббльдэля, когда ему удалось отбить невесту, которая некогда дала слово Крокеру. Если б не то, что она чуть было не выскользнула у него из рук, он наверное никогда не счел бы ее достойной таких восхвалений. При настоящем же положении вещей он походил на второго Париса, который вырвал новую Елену у ее Менелая; только, в данном случае, Парис был честный, Елена не была запретным плодом, а Менелай пока еще не имел на нее никаких особых прав. Но сюжет этот был достоин новой Илиады, за которой могла последовать вторая Энеида. Силой своего оружия он вырвал ее из объятий похитителя. Другой, будучи отвергнут, как был он, лишился бы чувств и отказался от борьбы. Но он продолжал бороться, даже когда лежал распростертый в пыли арены. Он прибил свой флаг к мачте, когда все его снасти были отрезаны, и наконец одержал победу. Конечно, его Клара была ему вдвое дороже, так как он завоевал ее после таких препятствий.
— Я не из тех, которые легко сдаются в сердечных делах, — сказал он мистеру Литльберду, младшему представителю фирмы, сообщая этому джентльмену о своей помолвке.
— Видно, что так, мистер Триббльдэль.
— Когда человек полюбит девушку, — т. е. серьезно полюбит, — он должен держаться ее или умереть. — Мистер Литльберд, который был счастливым отцом трех или четырех дочерей, замужних и невест, от удивления широко раскрыл глаза. Молодые люди, которые ухаживали за его дочками, отличались порядочной настойчивостью, но они не умерли. — Или умереть! — повторил Триббльдэль. — По крайней мере я бы так поступил. Если б она сделалась мистрисс Крокер, меня никогда бы более здесь не увидели, разве принесли бы сюда мой труп, для удостоверения моей личности.
Его восторг сослужил ему отличную службу. Хотя мистер Литльберд и смеялся, рассказывая эту историю мистеру Погсону, тем не менее они согласились увеличить его жалованье до 160 фунтов со дня его свадьбы.
— Да, мистер Фай, — говорил он бедному старику, который за последнее время так был убит, что уже не по-прежнему командовал Триббльдэлем, — я совершенно уверен, что теперь остепенюсь. Если что-нибудь может помочь молодому человеку остепениться, это — счастливая любовь.
— Надеюсь, что ты будешь счастлив, мистер Триббльдэль.
— Теперь-то буду. Душа моя будет больше лежать к делу, т. е. конечно та часть ее, которая не будет с тем милым созданием, в нашем домике, в Айлингтоне. А счастье, что он нанял эту квартиру, так как Клара в ней уже привыкла. Есть несколько вещей, как-то часы, фисгармоника, которых перевозить не надо. Если б с вами что-нибудь случилось, мистер Фай, Погсон и Литльберд найдут во мне человека, совершенно знакомого с делом.
— Конечно, когда-нибудь что-нибудь да случится, — сказал квакер.
Когда мисс Демиджон узнала, что жалованье клерка Погсона и Литльберда увеличено до 160 фунтов в год, она поняла, что ничем нельзя будет оправдать нового отказа. До этой минуты ей казалось, что Триббльдэль восторжествовал, благодаря обману, обнаружить бесполезность которого еще могло быть ее обязанностью. Он положительно заявил, что эти роковые слова: «Отрешить. Б. Б.», были несомненно внесены в книгу. Но до нее дошло, что слова эти пока внесены не были. Все хитрости дозволительны в любви и на войне. Она нисколько не сердилась на Триббльдэля за его маленькую хитрость. Ложь, при таких обстоятельствах, становилась заслугой. Но это еще не было причиной, чтоб она отвлекла ее от соблюдения собственных выгод. Несмотря на легкую ссору, которая произошла между нею и Крокером, Крокер, по-прежнему находившийся на службе ее величества, должен быть лучше Триббльделя. Но когда она узнала, что заявление Триббльдэля относительно 160 фунтов верно, да как подумала, что Крокер, рано или поздно, вероятно, будет отрешен, тогда она решилась быть твердой. Относительно же 160 фунтов, старушка мистрисс Демиджон сама отправилась в контору и узнала всю правду от Захарии Фай.
— По-моему, он хороший молодой человек, — сказал квакер, — и прекрасно пойдет, если перестанет так много о себе думать. — На это мистрисс Демиджон заметила, что с полдюжины ребят, вероятно, излечат его от этого недостатка.
Итак дело было слажено. Случилось, что Даниэль Триббльдэль и Клара Демиджон обвенчались в Галловэе в тот самый четверг, в который завершился так давно обсуждаемый союз между аристократическими домами Поуэль и де-Готвиль. По этому поводу было написано два письма, которые мы здесь приведем, в виде доказательства готовности забыть и простить, какой отличались характеры обоих действующих лиц. Дня за два до свадьбы было послано следующее приглашение:
«Дорогой Сэм!
Надеюсь, что вы совершенно забудете прошлое, по крайней мере то, что в нем было неприятного — и приедете в четверг, к нам на свадьбу. После венца здесь будет устроен маленький завтрак, и я уверена, что Дан будет очень счастлив пожать вам руку. Я его спрашивала и он сказал, что так как женихом будет он, он был бы очень рад иметь вас своим шафером.
Ваш старый и искренний друг
Ответ был следующий:
«Дорогая Клара!

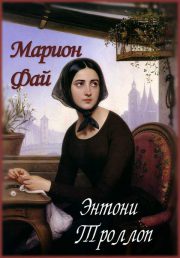
"Марион Фай" отзывы
Отзывы читателей о книге "Марион Фай". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Марион Фай" друзьям в соцсетях.