— Что ж мне сказать, лорд Гэмпстед?
— Что он вам сказал, мистрисс Роден?
— Он говорил мне о вашей сестре.
— Но, что он сказал?
— Что любит ее.
— И что она его любит?
— Что он на это надеется.
— Он, я уверен, сказал больше этого. Они дали друг другу слово.
— Кажется.
— Что вы об этом думаете, мистрисс Роден?
— Что я могу об этом думать, лорд Гэмпстед. Я почти не смею и думать об этом, вообще.
— Благоразумно ли это?
— Мне кажется, так, где замешана любовь, редко справляются с благоразумием.
— Но людям приходится с ним справляться. Я почти не знаю, что и думать об этом. По-моему, оно неблагоразумно. А между тем, нет на свете человека, которого бы я так уважал как вашего сына.
— Вы очень добры, милорд.
— Доброта тут не при чем, — как не при чем она в его симпатии ко мне. Но я могу сходиться с кем вздумаю, не причиняя вреда другим. Леди Кинсбёри считает меня идиотом, потому что я не живу исключительно в обществе графов и графинь; но отказываясь следовать ее советам, я не особенно ее оскорбляю. Она может с улыбкой толковать с приятельницами обо мне и моих увлечениях. Ее не будет терзать сознание позора. Также и отец мой. Ему кажется, что я plus royaliste que le roi;[3] le roi — это он; но в этой мысли для него не заключается никакой горечи. Эти элегантные молодые люди, мои братья, самые милые ребятишки на свете, пяти, шести и семи лет, будут иметь возможность ласково подсмеиваться над старшим братом, когда подрастут, чего не преминуть делать в обществе других ваших праздных молодых франтов. Им даже не будет досадно, что брат их и Джордж Роден неразлучны. Может быть, они сами почерпнут какую-нибудь ношу из знакомства с ним, стряхнут с себя несколько крупиц глупости, свойственной их общественному положению. Рассматривая вопрос со всех сторон, в этом отношении, я не только испытываю удовлетворение, но некоторую гордость. Я поступаю так, как имею право поступить. Вводя в свою семью противоречащее влияние, я вводил бы влияние доброе и полезное. Понимаете ли вы меня, мистрисс Роден?
— Мне кажется — очень ясно. Я была бы не умна, если б не понимала.
— Но вопрос изменяется, когда дело идет о сестре человека. Я думаю о счастии других.
— Она, вероятно, будет думать о собственном.
— Не исключительно, надеюсь.
— Нет; в этом я уверена. Но девушка, когда она любит…
— Да, все это справедливо. Но девушка в условиях Франсес обязана не… не жертвовать теми, с кем связали ее слава и фортуна. С вами я могу говорить откровенно, мистрисс Роден, так как вам известны мои личные взгляды на многое.
— У Джорджа нет сестры, нет никакой молодой родственницы; но если бы она существовала и вы полюбили ее, неужели вы бы на ней не женились, чтоб не пожертвовать вашими… связями?
— Слово это оскорбило вас?
— Нисколько. Оно совершенно подходящее. Я понимаю, о какой жертве вы говорите. Чувства леди Кинсбёри были бы принесены в жертву, если б ее дочь, даже ее падчерица стала женой моего сына. Она полагает, что происхождение ее дочери выше происхождения моего сына.
— Слово «происхождение» имеет столько различных значений.
— Все слова ваши я приму так, как вы этого желаете, лорд Гэмпстед, и не оскорблюсь. Мой сын, в его настоящих условиях, не партия для вашей сестры. И лорд, и леди Кинсбёри сочли бы, что тут была… жертва. Легко может быть, что маленькие лорды со временем не говорили бы в клубе о своем зяте, почтамтском клерке, как говорили бы о каком-нибудь графе или герцоге, с которым могли бы породниться. Оставим это в стороне, признаем, что жертва была бы. Но она будет и в том случае, если б вы женились на девушке не из вашего круга. Жертва была бы даже больше, так как она простиралась бы на какого-нибудь будущего маркиза Кинсбёри. Показали ли бы вы такое самопожертвование, какого требуете от сестры?
Лорд Гэмпстед с минуту задумался, а затем ответил:
— Не думаю, чтобы эти два случая были совершенно сходны.
— В чем же разница?
— Есть что-то более нежное, более скромное, требующее большей осторожности в поведении девушки, чем мужчины.
— Совершенно верно, лорд Гэмпстед. Там, где дело коснется поведения, девушка обязана подчиняться более строгим законам. Это можно объяснить, сказав, что девушка, отдавшаяся незаконной любви, погибла на веки, тогда как для мужчины возвращение себе уважения света крайне легко, даже если б он, по этому поводу, лишился хотя малой доли итого уважения. Тот же закон применим ко всем действиям девушки. Но в данном случае, — если б она вышла за человека, которого любит, — сестра ваша не сделала бы ничего такого, что должно было бы лишить ее уважения хороших людей или общества порядочных женщин. Я не говорю, чтоб этот брак был равный. Я не настаиваю на этом. Хотя сердце моего сына для меня дороже всего в мире, я понимаю, что может быт лучше, чтобы его сердце пострадало. Но когда вы говорите о жертве, которая требуется от него и сестры вашей, с тем, чтоб другие были освобождены от меньших жертв, мне кажется, вам следовало бы задаться вопросом: чего долг потребовал бы от вас самих? Не думаю, чтобы она пожертвовала благородной кровью Траффордов более, чем пожертвовали бы вы через подобный брак. — При этих словах она слегка наклонилась вперед и заглянула ему прямо в лицо. Он почувствовал, что она необыкновенно красива, что это очень умная женщина, на которую приятно смотреть и которую приятно слушать. Она защищала своего сына — он это сознавал. Но она не удостоила прибегнуть ни к каким низким аргументам.
— Речь не обо мне, — медленно сказал он.
— Неужели вы не можете себе представит, что дело идет о вас? Во всяком случае вы, вероятно, согласитесь, что мой аргумент справедлив.
— Право не знаю. Мне об этом надо подумать. Такой брак с моей стороны не оскорбил бы моей мачехи так, как оскорбил бы ее брак моей сестры.
— Оскорбил! Вы так говорите, лорд Гэмпстед, точно матушка ваша подумала бы, что сестра ваша опозорила себя как женщина!
— Я говорю о ее чувствах, не о своих. Не то было бы, если б я женился в той же сфере.
— Неужели? К таком случае я думаю, что мне, пожалуй, лучше посоветовать Джорджу не ездит в Гендон-Голл.
— Сестры моей там нет. Они все в Германии.
— Ему лучше не ездить туда, где о вашей сестре будут думать.
— Ни то что в мире не хотел бы я ссориться с вашим сыном.
— Лучше вам с ним разойтись. Не думайте, чтобы я защищала его. — Он именно это и думал, да она ничего другого и не делала. — Я уже сказала ему мое мнение, что ему не одолеть предрассудков, и что лучше было бы отказаться, чем прибавлять горя себе, а может быт, и ей. Все, что я говорил, не имело характера защиты, а только показывало, почему я думаю, что этот брак был бы неудобен. Не то чтоб мы или ваша сестра были слишком низки для подобного союза, но вы, с вашей стороны, пока еще не достаточно хороши или высоки душой.
— В этом я с вами спорить не стану, мистрисс Роден. Но вы передадите ему мое поручение?
— Да; я передам ему ваше поручение.
Тут лорд Гэмпстед, проведя добрый час у нее в доме, простился и уехал.
— Ровно час, — скакала Клара Демиджон, которая все еще смотрела в окно квартиры мистрисс Дуффер. — О чем могли они толковать?
— Мне кажется, он ухаживает за вдовой, — сказала мистрисс Дуффер, которая так была поражена, что не могла остановиться ни на какой новой мысли.
— Никогда бы не приехал он за этим верхом. Не пленится она молодым человеком, который тратит свои деньги на подобные вещи. Она предпочла бы скопидома. Но это его собственные лошади, его собственный грум, и он столько же ухаживает за вдовой как и за мной, — добавила Клара, смеясь.
— Желала бы я, чтоб он ухаживал за вами, милая.
— Может быть, не хуже его еще найдутся, мистрисс Дуффер. Я не Бог весть какую цену придаю лошадям и грумам. Тому, кто заведется ими, не по средствам иметь и жену. — Затем, проводив лорда Гэмпстеда глазами, пока он не скрылся из виду, она вернулась к тетке.
Но мистрисс Демиджон не теряла времени, пока Клара с мистрисс Дуффер зевали да делали пустые предположения. Как только она осталась одна, старуха достала шляпу и шаль, украдкой выбралась на улицу, направилась к концу ее на встречу груму, который в эту минуту проваливал лошадей. Здесь она не рисковала попасться на глава племяннице или соседям, и молча ждала, никем незамеченная, пока он вернется к тому месту, где она стояла.
— Молодой человек, — сказала она самым заискивающим голосом, когда грум поравнялся с ней.
— Что угодно, сударыня?
— Неправда ли, вы охотно бы выпили стаканчик пива, так долго ходивши взад и вперед?
— Нет, именно теперь-то и не выпил бы. — Он знал, кому служит и от кого может принимать пиво.
— Я с удовольствием бы заплатила за кружку, — сказала мистрисс Демиджон, вертя в руках мелкую монету так, чтобы он мог видеть ее.
— Благодарю вас, сударыня; я свое пиво пью в положенное время. Теперь я дежурю.
— Это, вероятно, лошади вашего господина?
— Чьи же больше, сударыня? Милорд ни на чьих лошадях ни ездит, как только на своих.
Вот успех-то! И монета в экономии! Милорд!
— Конечно, нет, — сказала мистрисс Демиджон. — Да и что за охота?
— Истинно так, сударыня.
— Лорд… Лорд… Кто он такой?
Грум задумался. Слуга обыкновенно желает, сколько в его силах, воздать должное своему господину. Человек этот вовсе не имел желания доставить удовольствие любопытной старухе, но он счел унизительным для своего господина и для самого себя как бы отрекаться от их общего имени. «Ампстед!» — сказал он, очень благодушно смотря на старуху, а затем двинулся далее, не прибавив более ни слова.
— Я давно знала, что они не то, что мы грешные, — сказала мистрисс Демиджон, едва племянница вошла.
— Вы не разузнали, кто он такой, тетушка?
— Ты, вероятно, была у мистрисс Дуффер. Вы с ней неделю бы советовались, и тогда бы ничего не узнали. — Только поздно вечером раскрыла она свою тайну. — Он пэр! Он — лорд Ампстед!
— Пэр!
— Говорю тебе, он лорд Ампстед, — сказала мистрисс Демиджон.
— Не верю, чтоб существовал такой лорд, — сказала Клара, отправляясь спать.
VII. Почтамт
Когда Джордж Роден возвратился домой в этот вечер, они с матерью очень подробно обсудили вопрос. Она горячо убеждала его, если не отказаться от своей любви, то, по крайней мере понять, какую невозможность представляет его брак с леди Франсес. Она была с ним очень нежна, выказала много чувства, сострадания и сочувствия; но упорно повторяла, что от такой помолвки не быть добру. Но он не захотел за йоту отступить от своего намерения, не хотел даже признать, чтобы чьи либо желания могли отвратить его от его цели, пока леди Франсес ему верна.
— Ты говоришь так, точно дочери рабы, — сказал он.
— Рабы и есть. Женщины должны быть рабами: они рабы условий света. Едва ли может молодая девушка противиться семье своей в вопросе о браке. Она может быть достаточно упряма, чтоб победить возражения, но случится это потому, что самые возражения не достаточно сильны. В данном случае возражения будут очень сильны.
— Увидим, мама, — сказал он. Мать, которая хорошо его знала, поняла, что продолжение разговора ни к чему бы не повело.
— Да, — сказал он, — я поеду в Гендон может быть в воскресенье. Этот мистер Вивиан славный малый, а так как Гэмпстед не желает со мной ссориться, я конечно с ним не поссорюсь.
Роден вообще был любим у себя в департаменте, и сумел сделать свои занятия приятными и интересными; но у него были свои маленькие невзгоды, как у большинства людей на всех карьерах. Его неприятности возникали главным образом из неблаговоспитанности собрата-клерка, который сидел с ним в одной комнате, у одного стола. В этой комнате их было пять человек, пожилой джентльмен и четверо молодых людей. Пожилой джентльмен был смирный, вежливый, глуповатый старик, который никогда никому не причинял неприятностей и мирился с легкомыслием молодежи, лишь бы проявления его не были слишком шумны или противны дисциплине. Когда это случалось, это вызывало у него одно только замечание: «Мистер Крокер, этого я не потерплю». Далее этого он никогда не шел, ни в смысле жалоб за своих подчиненных высшим властям, ни в личных ссорах с молодыми людьми. Даже с мистером Крокером, который несомненно был несносен, ему удалось сохранить подобие дружеских отношений. Фамилия его была Джирнингэм; первым, по летам, после мистера Джирнингэна, был мистер Крокер, от неуместных острот которого часто страдал наш Джордж Роден. Это иногда заходило так далеко, что Роден предвидел необходимость объяснить мистеру Крокеру, что между ними установилась вражда, или, что они «не разговаривают» иначе, как по делам службы. Но в подобном действии была бы решительность, которой Крокер едва ли стоил, и Роден воздержался, откладывая со дня на день, но продолжая сознавать, что надо что-нибудь предпринять, чтобы остановить вульгарные и неприятные ему выходки.

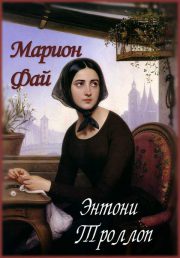
"Марион Фай" отзывы
Отзывы читателей о книге "Марион Фай". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Марион Фай" друзьям в соцсетях.