По-видимому, сам Поул относился к такой возможности вполне серьезно, потому что весной 1537 года в разговоре с одним из эмиссаров императора признался, что, по его мнению, волнения в Англии могут привести к его «браку с принцессой». Скорее всего именно поэтому он проявил осторожность и принял только сан дьякона. Таким образом, будучи кардиналом римской католической церкви, Реджинальд Поул имел право жениться. Шапюи считал, что Поул был единственным англичанином, которого Мария могла бы принять как мужа, а родственники Поула, у которых авторитарное правление Генриха вызывало все большее неприятие, начали говорить о браке Марии и кардинала чуть ли не как о неизбежности. Два других сына Маргарет Поул — Генри, лорд Монтегю, и Джеффри — возлагали большие надежды на изменение в положении их знаменитого брата и верили, что Марии суждено быть рядом с ним. Слуга лорда Монтегю передал слова своего господина, «что брак Реджинальда Поула с леди Марией, королевской дочерью, был бы весьма подходящим», а все остальные в окружении лорда согласно кивали. Джеффри Поул вообще по наивности полагал, что брак его брата с законной наследницей Тюдоров уничтожит все созданные Генрихом нововведения и восстановит старые порядки.
«Леди Мария когда-нибудь обязательно наденет на голову корону», — уверенно заявил однажды Джеффри.
ГЛАВА 20
Длится — то покорно, то мятежно —
Жизнь моя меж страхом и надеждой.
Четвертую жену Генриху VIII начали искать уже через несколько часов после смерти третьей жены. Недостатка в подходящих кандидатурах для занимающихся этим делом дипломатов не было. Например, племян иица императора, датская принцесса Кристина, очаровательная шестнадцатилетняя вдова, или несколько других родственниц Габсбургов, а также две милые дочери герцога Клевского Были на примете и французские невесты. Среди них Маргари та, дочь короля Франциска, Анна Лотарингская и три дочери герцога де Гиза — Мария, Луиза и Реие. Генрих настаивал чтобы их всех привезли в Кале, он бы там с ними поужинал, потанцевал — короче, внимательно рассмотрел, — а потом сделал бы выбор. Генрих и мысли не допускал, чтобы за него кто-то выбирал невесту.
«Ей-богу, — говорил он французским посланникам, — это имеет ко мне слишком близкое касательство, поэтому прежде чем принять решение, нужно хотя бы познакомиться».
Генрих возжаждал романтики. Его первый брак с Екатериной был продиктован государственной необходимостью, правда, в первые годы он, безусловно, ее любил, и они жили очень неплохо. Два последующих брака вообще были по любви и никакого государственного значения не имели. Теперь Генриху было сорок шесть, и он не выражал никакого желания вступать в холодный брак по расчету. Он хотел, чтобы рядом с ним была женщина, с которой ему было бы хорошо, то есть хотел снова влюбиться. Поэтому и предложил развлечься в обществе французских аристократок в Кале. Однако французы нашли предложение оскорбительным и даже неблагородным. «Разве рыцари Круглого Стола так относились к женщинам?» — возмутились посланники. Нет, вначале Генрих через посредников должен выбрать одну, затем в Кале для знакомства привезут только ее, и никого больше.
Вероятно, брачные дела короля слегка утомили, потому что он вдруг ударился в сумасбродства. Например, приказал привезти в графство Суррей несколько сотен мастеровых. Вначале они сровняли с землей целую деревню, освобождая место для строительства самого большого дворца в Англии. За время своего правления Генрих не построил ни одного дворца. Он всегда жил в перестроенных дворцовых помещениях, воздвигнутых предшественниками, но теперь вот на земле графства Суррей решил соорудить свой — он уже дал ему название Несравненный, — который должен был соперничать с великолепнейшими сооружениями французских королей в Шамборе. Английские мастеровые готовили пиломатериалы и воздвигали стены огромного здания, а внутренней отделкой должны были заняться специально привезенные из Италии резчики по камню, штукатуры и скульпторы. На месте снесенной деревни возникла новая. Ее образовали шатры, в которых ремесленникам и мастеровым предстояло жить несколько лет, пока они будут трудиться над Несравненным. Король смог переехать в законченные крылья дворца только в 1541 году, но периодически приезжал, чтобы понаблюдать за работой скульпторов и резчиков по камню. Стены и ворота дворца украшали фрески и барельефы с изображениями мифологических и исторических сюжетов, а в центре внутреннего двора шла работа над огромной статуей Генриха, где он был изваян сидящим в величественной позе на троне.
Несравненный дворец должен был увековечить могущество Генриха для потомков. Он был построен на средства, полученные от продажи монастырских земель. Разорение боль-, ших монастырей завершилось к концу 30-х годов разграблением самой почитаемой в стране святыни — гробницы Томаса Бекета в Кентербери. Этот величественный памятник средневековья был знаменит не только богатством убранства, но и своей способностью исцелять. Саркофаг, в котором покоилось тело Бекета, был укутан золотой парчой, усыпанной драгоценными камнями, которые в течение более трех столетий приносили паломники. В золотой покров саркофага с телом святого были вделаны сапфиры, бриллианты, изумруды, жемчуг, малые и крупные рубины (так называемые бализы), а также монеты и полудрагоценные камни. Говорили, что несколько камней там были размером с гусиное яйцо, но большую часть драгоценностей составляли рубины, величиной «не более ногтя большого пальца человека». Был там один камень, который называли «Король Франции», он светился так сильно и с таким блеском, что даже в облачную погоду, когда в церкви царил полумрак, этот рубин легко можно было различить среди других. Он ослепительно сиял в нише справа от алтаря.
Король уже давно зарился на гробницу в Кентербери. Теперь Генрих, чтобы прикарманить сокровища Бекета, наконец решился помериться силами в неравном поединке с давно усопшим святым. Вначале он объявил, что «Томас Бекет, бывший епископ Кентерберийский, провозглашенный римской властью святым, с этого времени таковым больше не является и его не следует почитать; перед его мощами никто не должен преклонять колени, потому что отныне он не святой», и приказал удалить из церквей все изображения Бекета. Его праздники были отменены, в его честь запрещалось служить молебны, «потому что, как выяснилось, он поднял мятеж против своего правителя и умер как предатель». Бекета действительно убили люди Генриха II, но теперь его вновь собирались судить, как будто бы он был живым. Поскольку на судебное разбирательство мученик не явился, его осудили заочно за мятеж и предательство и приговорили к сожжению. (Кости Бекета были брошены в пламя.) А имущество предателя, как водится, было передано в королевскую казну. Доверенные лица короля методично содрали с гробницы и алтаря в Кентербери все драгоценности. Добыча составила два огромных сундука, причем каждый едва могли тащить восемь крепких мужчин. Замученный в XII веке Бекет одержал тогда над королем победу, но в XVI король взял реванш. Не было силы — ни внутри церкви, ни вне ее, — которая могла бы стать на его пути. Не помог даже обожаемый Святой Томас. Теперь, когда Генрих усаживался на свой трон, на его большом пальце красовался перстень с сияющим камнем. Эту драгоценность, которая носила имя «Король Франции», он отобрал у Бекета.
Вполне возможно, что нелепые условия, которые ставил Генрих при выборе невесты, а также затеянное им грандиозное строительство и наглое ограбление Бекета — все это было обусловлено стремлением скрыть некий пробуждающийся комплекс. И неправда, что при переговорах о браке совсем не учитывались государственные интересы. Больше всего на свете — кроме смерти — Генрих боялся направленного против него союза Франции и «Священной Римской империи» и готов был пойти на все, чтобы откупиться от одного, причем любого, из партнеров в этом ужасном союзе. Когда французские кандидатки по различным причинам отпали, Генриху тут же предложили в четыре, нет, даже в пять раз больше невест из рода Габсбургов. Согласно одному из планов, предполагалось одновременно соединить Генриха и трех его детей с четырьмя достойными родственниками императора, по другой версии это должны были быть он сам, Мария, Елизавета, Мария Говард и его племянница Мария Дуглас. Одновременно Генрих пытался использовать затянувшиеся переговоры с Карлом о браке Марии и дона Луиса Португальского, чтобы отдалить Марию от императора и приблизить к себе.
Весной 1538 года при встречах с Марией Генрих каждый раз заводил разговор о Карле, подвергая сомнению искренность его намерений по поводу ее брака с доном Луисом, говоря, что император предлагает такие унизительные условия, что принять их невозможно. Все лето он не оставлял попыток настроить дочь против кузена императора, пока наконец в конце августа настоятельно не потребовал от нее пожаловаться Шапюи на затянувшиеся переговоры. Кромвель написал письмо, где подробно перечислил претензии, и вручил ей для передачи послу с пожеланием «присовокупить такие нежные слова, какие могут продиктовать ваша собственная мудрость и врожденное благоразумие».
Мария сделала все, что ей велели. Увиделась с Шапюи и, следуя указаниям Кромвеля, пункт за пунктом передала императору, что недовольна его скрытностью, его нежеланием проявить доброту и дружелюбие, которых она ожидала от кузена, а также предложением выделить ей мизерную вдовью часть наследства.
«Даже купцы дают па свадьбу дочерям четверть своего годового дохода, — произнесла она, повторяя слова Кромвеля. — И разумеется, император мог бы предложить больше двадцати тысяч дукатов. Почему же после тех прекрасных слов, какие он всегда расточал в мой адрес, до сих пор ничего не получается с переговорами? Я всего лишь женщина, — закончила Мария, — и должна была высказать все это, не могла сдержаться. И вовсе не потому что горю нетерпением, чтобы все разрешилось по моему желанию, — просто мне следует подчиняться воле отца, которого я почитаю вторым после Бога».
Пересказав все положения Кромвеля, Мария поведала Шапюи о своих истинных чувствах. Да, она понимает, что переговоры не приносят результата вовсе не по причине недобросовестности императора. Она не верит тому, что говорит отец по поводу позиции Карла, и готова принять все, что он предложит относительно ее замужества. Мария заверила Шапюи, что полностью доверяет Карлу, который после Бога является единственной ее надеждой. Она говорила со страстностью поистине удивительной. Император, по ее словам, занимает в ее сердце место «отца и матери», она так нежно к нему привязана, что «трудно даже представить такую любовь к родственнику».
Экспансивность Марии свидетельствовала скорее всего о том, что она опять чего-то боялась Причины, разумеется, были. Угроза войны заставляла Генриха ограничивать Марию в действиях, и он также делал все возможное, чтобы контролировать ее мысли. Только напрасно надеялся, что сможет поколебать преданность дочери человеку, который больше десяти лет был воплощением ее надежд, обвинив его (своего злейшего врага) в недобросовестности. Он постоянно недооценивал сообразительность Марии и одновременно переоценивал свое обаяние и ее легковерие. Конечно, относительно Марии он заблуждался, но все равно ее положение было достаточно уязвимым, и Шапюи это настолько встревожило, что он вновь заговорил о бегстве. Она ответила, что пока предпочтет ждать, надеясь на то, что ситуация выправится и что отец проявит к ней «больше внимания и уважения, чем это было до сих пор».
Лето 1538 года Мария провела беспокойно. Ее тревожила неопределенность позиции отца. Прекрасно понимая, что даже малейший слух или намек о подозрительном поведении может привести в гнев Генриха и Кромвеля (ее «единственную последнюю надежду после короля»), она продолжала писать им обоим подобострастнейшие письма. Можно, например, вспомнить одно из писем Кромвелю, написанных после незначительного инцидента. Оно прекрасно показывает, в каком состоянии тогда была Мария. Однажды, никому не доложив, она приняла в своем доме на короткое время нескольких чужестранцев. Об этом стало известно Тайному совету, который немедленно поставил вопрос о доверии Марии. Кромвель написал ей строгое письмо с предупреждением, приказывая в будущем не делать ничего, что «может заставить заподозрить ее в хитрости». В ответ Мария написала, что благодарит Кромвеля за «нежное и дружелюбное» письмо, и заверила первого министра, что без разрешения никогда больше никого в своей резиденции не приютит. Она умоляла его продолжать быть ее адвокатом перед отцом, добавив, что-скорее готова пойти на физические мучения, чем потерять малейшую частицу королевской милости.
О физических мучениях Мария упомянула не случайно. В это время никто при дворе, да и вообще в стране, не был гарантирован от физической расправы. Генрих становился все более своенравным и, казалось, упивался своей властью решать вопросы жизни и смерти. В конце 30-х — начале 40-х годов, когда существенно возросло народное противостояние королю, соответственно увеличилось и число казней. Повсеместно арестовывали и наказывали авторов баллад, которые перекладывали политические вирши на традиционные мелодии. Один из них обнаглел до такой степени, что исполнял высмеивающую короля балладу, положив ее на мелодию, сочиненную самим Генрихом. В принадлежащем Англии городе-крепости Кале повесили, а затем четвертовали двух священников, которые были обвицены в предательстве. По всему Лондону из уст в уста передавали рассказ о муках, которые им пришлось пережить. Говорилось, что вначале их повесили, но веревки обрезали, когда священники были еще живы. После этого палач снял с них всю одежду, затем, привязав к доске рядом с эшафотом, вспорол каждому живот, вытащил внутренности и поджег. А священники все еще не Умирали, а «продолжали говорить, пока из груди каждого не вырезали сердце».

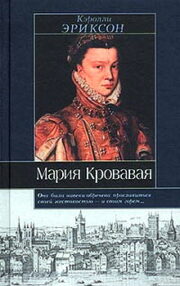
"Мария Кровавая" отзывы
Отзывы читателей о книге "Мария Кровавая". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Мария Кровавая" друзьям в соцсетях.