Тем временем Карл V предпринял решительное наступление на реформацию. В Англии стало известно о его недавних указах против ереси — «эдиктах нетерпимости», — в которых за малейший намек на еретические верования предусматривалось жесточайшее наказание. Распространять и даже читать работы Лютера, Кальвина или других реформаторов, разумеется, запрещалось. Но нельзя было также и обсуждать их доктрины. При этом за любой разговор с еретиком полагалось сразу несколько наказаний. Серьезным преступлением считалась продажа неподобающих или непочтительных изображений Девы Марии, святых или священнослужителей, что приравнивалось к проповедованию ереси. В этом случае виновные лишались и жизни, и имущества. Мужчинам отрубали головы, а женщин сжигали живьем. Потрясенные этими «эдиктами», англичане говорили друг другу, что император настоящий деспот и намеревается возродить «жуткую испанскую инквизицию». Двадцать отплывших в Антверпен английских торговых кораблей, когда их капитаны прочитали «эдикты», вернулись домой. Они не поверили обещанию, что иностранных купцов не будут преследовать за взгляды, «если только это не приведет к скандалу».
В воздухеопять запахло войной. Вместе со сменой власти в Совете сменилась и дипломатическая тактика. Герцог Сомерсет был склонен умиротворять императора, а Дадли не желал предпринимать для этого никаких усилий. Он был известен как сторонник союза с Францией. Закончив весной 1550 года войну, он продал Генриху II Булонь (внешние фортификационные сооружения уже были в руках французского короля), а затем, в апреле, торжественно сделал его рыцарем ордена Подвязки. Сближение с Францией еще сильнее ухудшило отношения Англии с империей. Война казалась неизбежной, и Дадли начал к ней готовиться. Воспользовавшись мобилизацией, проведенной во время восстаний 1549 года, он создал постоянную армию, которая подчинялась только ему. Глав военных гарнизонов в графствах (шерифов) заменили «лорды-наместники», а военачальники армии Дадли (его доверенные люди) оплачивались из королевской казны.
Чтобы заинтересовать юного короля ратным искусством, Дадли приказал устраивать для его забавы различные военные представления. 19 июня на Темзе было проведено состязание, организованное лорд-адмиралом Эдвардом Клинтоном. Для этого был возведен плавучий замок со сторожевой башней, окруженный с трех сторон стенами. Его обороняли пятьдесят воинов в желтом и черном. В их распоряжении была также окрашенная в ярко-желтый цвет галера с военным снаряжением. Замок штурмовали четыре полубаркаса. Нападающие отталкивали желтую галеру и атаковали защитников «крупными комьями земли, петардами, горящими прутьями и дротиками». Затем, когда они проникли за стены, к ним на подкрепление пришли еще четыре судна под командованием адмирала. В конце концов «замок захватили штурмом, повалили башню и взяли в плен коменданта и его помощника».
Военные приготовления внушали беспокойство населению. «Глядя на все это, — писал в начале августа Схейве, — люди начали страшиться приближающейся войны. В народе царит всеобщая растерянность».
После неудачной попытки бегства окрестности резиденции Марии в Болье наводнили сотни стражников. Во все ближайшие порты были посланы вооруженные группы с наказом строго следить за всеми прибывающими и убывающими кораблями и при малейшем подозрении поднимать тревогу. Слышали, как английский посол при французском дворе сказал, что Совет теперь намерен охранять Марию много строже, чем прежде, и что своим недавним поведением она заставила советников пересмотреть свое отношение к «религиозному своеобразию» принцессы.
«Она будет вынуждена принять ту религию, которую исповедует король, — сказал посол, — иначе ей придется горько сожалеть о своем упрямстве».
Предстояло нешуточное противостояние Марии с Советом. И кроме решимости, никакого другого оружия против них у нее не было. Конечно, кузен-император сделал для Марии уже больше, чем в свое время для ее матери, и в будущем у него оставалась возможность оказывать влияние на происходящее, однако все это делалось на расстоянии, а его посол при дворе Эдуарда, Схейве, как дипломат ничего собой не представлял, даже не знал английского языка. Вот на что приходилось опираться Марии, когда она должна была отражать начавшееся в июле 1550 года наступление на мессу.
Покидая Вудхем-Уолтер, Мария послала вперед одного из своих капелланов, чтобы тот подготовил к ее прибытию в Болье мессу. Она вовремя не приехала, но он все равно отслужил мессу в присутствии всех домочадцев. А советники только и ждали повода, чтобы придраться. Дело в том, что Уильям Парр, нетерпимый маркиз Нортгемптон, был также и графом Эссексом. А поскольку резиденция Марии находилась именно в этом графстве, он повелел шерифу наказать капеллана Франсиса Молита за нарушение «королевских эдиктов и установлений, касающихся религии». Аналогичное обвинение было предъявлено и второму капеллану Марии, Александру Баркли. В результате Молит был подвергнут порке. Правда, Баркли пока остался в доме Марии и продолжал служить мессу.
Этот случай предоставил Совету повод преследовать Марию много месяцев. Станет ли она помогать шерифу, чтобы эти два капеллана предстали перед правосудием? Как она может заявлять, что ее капелланам была обещана возможность свободно служить мессу, когда подобных обещаний никогда и никто не давал? Не могла бы принцесса быть столь любезной и явиться во дворец, чтобы нанести визит его королевскому величеству, ее брату? В последнем случае это был не приказ, а приглашение, которое доставили канцлер Ричард Рич и секретарь Совета министр Питри. Они лично передали Марии письма от короля и Совета. Было очевидно, что советникам важно убрать Марию подальше от побережья, поближе к столице, лучше всего в королевский дворец, где действия принцессы можно было бы легко контролировать. Она сослалась на недомогание, что было правдой. С наступлением осени Мария, как обычно, заболела. Было послано еще одно письмо, в котором говорилось, что в этом случае тем более следует переехать во дворец, так как перемена обстановки, несомненно, пойдет ей на пользу. В конце ноября она пишет ответ: «Мое заболевание не связано с плохим климатом в Эссексе. Дом, в котором я живу, и окрестный воздух здесь ни при чем. Просто наступило время года, когда опадают листья, а в эту пору я уже много лет редко избегаю недомогания такого рода».
Канцлер Рич всеми возможными способами пытался склонить Марию покинуть Болье, разве что только силу не применял. Думал, что договорится с Рочестером, чтобы тот использовал свое влияние на принцессу. Но он совершенно неправильно оценивал их отношения. Как и все остальные в Совете, он не мог себе представить, чтобы Мария всем распоряжалась в собственном доме, полагая, что истинным хозяином здесь является управляющий, который, по его мнению, должен был играть при ней роль отца или опекуна. Канцлер даже не мог предположить, что Мария единолично принимает решения. Разумеется, это должен был делать за нее Рочес-тер. Когда Рич обратился к нему со своими предложениями, управляющий дал ясно понять, что никакого особенного влияния на Марию не имеет и что она не склонна менять свои решения. Иными словами, никуда она отсюда не поедет. Канцлер ему не поверил и очень рассердился, но это все равно не помогло. Тогда Рич решил использовать другую тактику. Он приехал в Болье вместе с женой, и они пригласили Марию на охоту. Потом предложили Марии, не заезжая домой, отправиться к ним в гости, где были приготовлены разнообразные развлечения. Мария быстро раскусила этот план и, побыв недолгое время в доме канцлера, возвратилась к себе в Болье.
В ноябре нападки на капелланов возобновились. Молита и Баркли заставили предстать перед Советом. Им удалось доказать свою невиновность, хотя и состоялись дебаты по поводу точной формулировки обещания, данного в устной форме Ван дер Дельфту много месяцев назад, относительно возможности Марии свободно исповедовать католическую религию. В декабре эти дебаты возобновились. Письма Марии в Совет были краткими, в них содержались только факты. Она говорила Схейве, что делает это намеренно («пишет резко»), чтобы они не сомневались в ее решимости. Мария обвиняла членов Совета в лицемерии и жестокости. «Вы заявляете, — писала она, — что не помните о своих словесных обещаниях позволить мне служить мессу. Но это ложь, потому что в глубине души знаете об этом так же, хорошо, как и я».
За несколько недель до Рождества Марии пришлось посетить королевский дворец. Она защищала свою позицию как могла, но вскоре обнаружила, что никто ее доводов не слушает и меньше всего король, который начал свидание фразой: «До меня дошли слухи, что Мария имеет обыкновение служить мессу». И это при том, что ее приверженность к католицизму была общеизвестна. Значит, кто-то внушил Эдуарду, что именно с такими словами следует обратиться к сестре. Мария смотрела на него во все глаза — ведь совсем недавно это был милый ребенок, которого она любила, как сына. Теперь же перед ней восседала бесчувственная марионетка, которой управляли руки советников. «Ощутив, что король, которого я люблю и почитаю превыше всех остальных человеческих существ, ибо к этому меня склоняют долг и моя сущность, выступает сейчас против меня, я не могла сдержаться, чтобы не выразить огромную печаль», — написала она после этого разговора. Ее слезы смели преграду, которую попытались возвести между ней и Эдуардом. Король тоже заплакал и сказал, чтобы она вытерла слезы и что он «не собирался ее обижать». Тут же вмешались советники, боясь, как бы нежные чувства между братом и сестрой не переросли во что-то серьезное. Во всяком случае, больше о религии в тот день никто не заговаривал.
В письме, которое она написала в Совет после этой встречи, Мария попыталась отделить свои чувства к брату от недоверия к членам Совета, перед которыми у нее не было никаких обязательств. «Я признаю, что по отношению к Его Величеству и моему брату, — писала она, — я являюсь смиренной сестрой и подданной, потому что он мой повелитель. Но вам, мои лорды, я ничего не должна, кроме дружелюбия и доброй воли, которую вы найдете во мне, если я встречу с вашей стороны то же самое». Такая тактика была для нее очень важной. Какие бы дурные побуждения ей ни приписывали Дадли и его приспешники, как бы они ее ни унижали, но пока у Эдуарда сохраняются к сестре прежние чувства, есть надежда. И по-видимому, эти чувства Эдуарда были достаточно сильными. Можно сослаться на свидетельство Джейн Дор-мер, которая писала, что, когда бы Мария ни приезжала навестить Эдуарда (Джейн рассказал это один придворный, который был очевидцем), король всегда «вначале ударялся в слезы, сожалея, что все идет против его воли и желания». Эдуард убеждал Марию «набраться терпения и дождаться, когда ему станет больше лет… Тогда он найдет возможность все исправить». Он всегда очень переживал, видя, что она собирается уходить. Целовал ее и приказывал принести что-нибудь в подарок. Но что бы ни приносили, все казалось ему недостаточно ценным, и от этого король печалился еще больше. Понимая, что Мария может использовать брата в своих целях (а стало быть, во вред Совету), приближенные Эдуарда старались сделать так, чтобы принцесса навещала его как можно реже. «В ее присутствии, — говорили они, — король впадает в меланхолию» и старались оградить Эдуарда от визитов сестры «для его же блага». Мария в этих встречах с братом находила утешение и надеялась, что придет время, когда он достаточно повзрослеет, начнет самостоятельно править и отомстит ее преследователям.
Тем временем Дадли делал все возможное, чтобы помешать этому. Холодный прием, который оказал сестре юный король в декабре, был делом рук графа. Дадли прилагал все усилия, чтобы сформировать характер Эдуарда так, как это было нужно ему. Теперь Эдуард был худощавым, изящным тринадцатилетним юношей. Вдаль он видел плохо и потому щурился, кроме того, у него одно плечо было выше другого. К кукольной красоте с годами добавилась неуклюжая имитация королевского величия. Эдуард весьма неубедительно пытался копировать манеры своего крепкого, дородного и энергичного отца. On упирал руки в бедра и с важным, напыщенным видом вышагивал на своих тонких ножках, хмурясь от неудовольствия и выкрикивая «грозные ругательства» высоким пронзительным голосом. Юный король намеренно культивировал в себе дурные манеры, что странным образом контрастировало с его религиозными убеждениями, которые он с большой готовностью излагал каждому. В принципе Эдуард был еще совсем неоформившимся мальчиком, правда, с задатками интеллектуального, утонченного и педантичного короля, производящего впечатление и тем не менее не очень привлекательного. К тому же его хрупкость казалась слишком болезненной. «Вполне возможно, что он еще удивит или ужаснет мир… — писал об Эдуарде епископ Хупер осенью 1550 года, — если выживет».
С каждым годом Эдуард все глубже вникал в работу правительства, хотя, разумеется, контролировать ничего не мог. В августе 1551 года он начал регулярно бывать на заседаниях Совета и даже подавал некоторые идеи. Король приказал переименовать флагман «Великий Харри» в «Великий Эдуард» и проследил, чтобы его удлинили, а также поправили снасти, такелаж и внешний вид. Даже военные игры, которыми юный король занимался по настоянию Дадли, имели политическое значение. Очень хотелось, чтобы у иностранных посланников создалось впечатление, что Эдуард — энергичный и ловкий атлет. Однако этого, к сожалению, не получалось. Он умел ездить верхом, стрелять, охотиться и делал все это более или менее прилично, но когда дело доходило до турнирных поединков, у него были сплошные разочарования. И нельзя сказать, что он не старался. Эдуард добросовестно учился делать выпады, бросаться с копьем наперевес и тому подобное, но неизменно промахивался. После унизительных провалов па нескольких турнирах низкого ранга, в которых участвовали его ровесники, королю от-этого занятия пришлось отказаться.

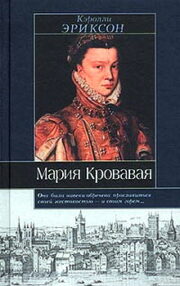
"Мария Кровавая" отзывы
Отзывы читателей о книге "Мария Кровавая". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Мария Кровавая" друзьям в соцсетях.