После покушения Флауэра и других подобных происшествий король и королева повелели прислать в Хэмптон-Корт дополнительно «настоящих и преданных государству людей». По соседству с дворцом расквартировали несколько отрядов воинов с пушками. Аналогичные меры предосторожности были приняты в Лондоне — из опасения, что наводнившие город «праздные бродяги» могут попытаться воспользоваться любой «неприятностью» во время родов королевы, чтобы начать грабить дома богатых горожан. У городских ворот увеличили количество стражи, а по улицам всю" ночь ходили патрульные. Знать, стараясь не обращать внимания на большое скопление воинов, начала стекаться во дворец, чтобы присутствовать при рождении наследника престола. Филипп удивил всех, посетив свадьбу сына графа Арундела, лорда Мелтраверса. Он прибыл в дом графа со всеми своими приближенными и подарил невесте великолепное ожерелье стоимостью в тысячу дукатов. Буквально через несколько дней во дворце была устроена еще одна свадьба. Сын графа Суссекса, лорд Фит — цуолтер, с огромной помпой женился на дочери графа Саут — гемптона. Чтобы оказать жениху и невесте еще большую честь, Филипп вместе с остальными гостями принял участие в турнире.
Рано утром во вторник, 30 апреля, пришла весть, что вскоре после полуночи королева родила принца. Боль она перенесла небольшую и сейчас нормально себя чувствует. Мальчик красивый, можно сказать, безукоризненный. Королевские чиновники это сообщение подтвердили, так что к полудню па улицах запылали праздничные костры и зазвонили все колокола. В этот день ни одна лавка открыта не была, а на площадях и в купеческих дворах были выставлены столы с даровым вином и мясом. Вокруг каждой церкви священники устроили крестные ходы с пением Те Deum «в честь рождения нашего принца». Отплывающие моряки понесли эту радостную весть с собой на континент.
К вечеру 2 мая императорский двор испытал «радость безмерную», услышав о рождении принца, а в четыре утра 3 мая император послал за английским послом, чтобы услышать из его уст официальное подтверждение этого события. Мейсон сказал, что он тоже слышал весть из Лондона, но пока никаких официальных сообщений из дворца не поступало. Карл, видимо, был «не склонен подвергать известие какому-либо сомнению», то же самое его сестра в Антверпене. Она «приказала звонить в большой колокол, чтобы дать знать всем людям, что весть правдива». Стоящие в гавани корабли английского купца принялись палить из всех пушек, а их капитаны встретились, чтобы обсудить план «достойного празднества на воде». Но еще до того, как они успели договориться, из Брюсселя пришли сведения о том, что радость преждевременна. Герцог Альба прислал императору сообщение из Хэмптон-Корта, что никакого ребенка не было, у королевы еще не начались роды. Императорский дворец возвратился к своему привычному режиму «надежд и ожиданий», но лондонцы были разочарованы и обижены. «Трудно передать, — писал венецианский посол Мишель, — как сильно это привело всех в уныние».
ГЛАВА 42
И мельничья дочка в платьишке своем посконном
Все краше, чем Мэри — владычица без короны!
Ожидалось, что ребенок Марии родится в конце апреля. Главные фрейлины королевства прибыли в Хэмптон-Корт, чтобы стать свидетельницами родов, и во дворце каким-то образом для всех гостей нашлось место. Уже были закончены и шитье, и вышивка, приготовлены кормилицы, прилажены колыбельки. В покоях Марии стояла «очень роскошная и великолепно украшенная» королевская колыбелька. На ее деревянной поверхности были выгравированы стихи на латыни и английском, славящие дарованную Англии Божью милость:
Господь, дитя, что Мэри высшей силой
Послал, во имя Англии помилуй!
Но проходили дни, а схватки все не начинались. Марию в этот период почти никто не видел, кроме самых приближенных дам. Она даже старалась как можно реже подходить к окну. А во дворце придворные сменили шелковые платья со шлейфами и бархатные камзолы веселых тонов на черные одеяния, потому что начался траур по бабушке короля. Наконец закончилось многолетнее убогое существование Иоанны Безумной — она умерла. По обычаю Филипп до похорон уединился в своих апартаментах. Он, конечно, собирался прервать траур для «празднования рождения наследника», но пока этого не случилось, ему вместе со свитой следовало предаваться официальной скорби, находя утешение в том, что годовой доход Иоанны, составляющий около двадцати пяти тысяч дукатов, теперь должен был перейти к нему.
Французский посол считал, что в Хэмптон-Корте разыгрывается изощренный фарс. Он никогда не питал особого уважения к Марии, а в последние годы и вовсе имел все основания для недовольства. После подавления восстания Уайат-та она по понятным причинам была с ним довольно резка, и Ноайль находил такое отношение к себе несправедливым. Он написал Генриху II, что Мария в общении с ним «потеряла все свое женское очарование». Кажется, ему было невдомек, что королеву раздражает тот факт, что французы поддерживают группу английских мятежников, которые сбежали во Францию и основали небольшую колонию в Невшателе. Эти «знатные дворяне и молодые джентльмены» численностью около двух сотен поговаривали о том, чтобы вместе с французской армией вторгнуться в Англию. Они водили дружбу с промышляющими в Ла-Манше пиратами, и французский король поощрял их всеми средствами, кроме денег и оружия. Мария выложила все это Ноайлю, обвиняя короля Генриха в вероломстве по отношению к ней и говоря, что «она никогда бы не стала предпринимать против него такие действия, даже если бы ей пообещали три королевства».
Сказав это, она вышла из комнаты, оставив посла с широко раскрытым ртом. Несколько секунд он в замешательстве смотрел ей вслед, но затем его смущение сменилось гневом, и он выместил его на первом, кто подвернулся под руку. Им случайно оказался лорд-канцлер. Ноайль обвинил Гардинера в том, что тот, вместо того чтобы слушать его разговор с королевой, занимался чтением, и напомнил епископу о старых договоренностях поддерживать друг друга. Гардинер, как известно, тоже был довольно вспыльчив и, в свою очередь, разозлился. Их спор мог перерасти в серьезную ссору, если бы Ноайль не заметил, что они не одни. В противоположном конце галереи находился один из секретарей Реиара, притворяющийся погруженным в свои мысли, но на самом деле ловящий каждое сказанное ими слово, чтобы вскорости донести своему господину. Злобно пробормотав что-то невнятное, Ноайль удалился.
И вот теперь, проходя в Хэмптон-Корте мимо одетых в черное английских и испанских придворных, возносящих молитвы и преисполненных ожиданиями радостного события, которое вот-вот должно было наступить, он внутренне смеялся над ними. Потому что совершенно точно знал: никакого ребенка не будет. И не может быть, поскольку не было никакой беременности. Один из его осведомителей — человек, пользующийся доверием и у Сюзанны Кларенсье, и у повивальной бабки, которые постоянно общались с королевой, сказал ему, что обе женщины уже давно заметили это. Мария была «бледная и осунувшаяся», но, кроме вздутого живота, никаких признаков беременности у нее не было. Повитуха, «одна из лучших в городе», считала, что королевские лекари либо невежественны, либо просто боятся сказать королеве правду. Да и сама она, «больше для того, чтобы утешить ее словами», осмеливалась время от времени тактично намекать, что, возможно, сроки родов «неправильно определены». Уже несколько месяцев ходил слух, что увеличение живота королевы было всего лишь следствием «опухоли, которая часто случается у женщин». Слышали, как один из лекарей Марии сказал (видимо, чтобы придать диагнозу некую благовидность), что королева очень мало ест и это создает угрозу для жизни ребенка и ее самой. Все эти свидетельства были более чем достаточными, чтобы убедить Ноайля, что «сераль» в Хэмптон-Корте — как он называл удаление королевы на роды — был всего лишь нелепым притворством, а королева — либо откровенная лгунья, либо жалкая простушка.
Тем не менее истинное положение дел было гораздо сложнее, чем кто-либо это осознавал. Начать следует с того, что повитуха, рассказав осведомителю Ноайля об отсутствии у королевы симптомов беременности, была неточна. Вполне вероятно, что для ее опытного глаза это могло быть и очевидным, но симптомы были, и достаточно убедительные, так что у несведущих наблюдателей при дворе и у самой Марии не было никаких сомнений, что она действительно готовится стать матерью. Например, Ренар, обмануть которого было очень трудно, с уверенностью писал, что «королева поистине носит ребенка, поскольку чувствует его, и есть другие привычные симптомы, такие, как состояние грудей». Венецианский посол Мишель в своих записках, сделанных через несколько лет ; после описываемых событий, заверял синьорию, что «наряду со всеми остальными явными признаками беременности было набухание сосков, из которых выделялось молоко». Оглядываясь назад и вспоминая все, что он видел и слышал во время подготовки Марии к родам, Мишель считал, что «в этом деле не было ни обмана, пи злого умысла, а всего лишь ошибка, причем не только со стороны короля и королевы, по и со стороны советников вкупе со всем двором».
С точки зрения медицины XX века у Марии была водянка яичников. Этим объясняются беспокоившие ее почти всю жизнь задержки и нерегулярность месячных циклов, а также вздутие живота, которое было ошибочно принято за беременность. Даже если бы она действительно зачала ребенка, то такое состояние организма все равно помешало бы выносить его полные девять месяцев.
Второй французский посол, Буадофин, пустил гнусный слух о том, что у Марии случился выкидыш. 7 мая он заявил, , что «королева родила какой-то комок плоти, похожий на крота, и была на пороге смерти». Это туманное, впоследствии ничем не подтвержденное утверждение дало, конечно, пищу для злорадных насмешек протестантов, но на физическое состояние Марии света не проливало.
Ясно одно: Марию настолько прочно убедили в наличии у нее беременности, что, даже когда ошибка стала очевидной, она предпочла верить в иллюзию, а не в реальность. Дело в том, что бесплодие королевы никак не укладывалось в ход Божественного предопределения ее жизни. Она просто не могла не иметь детей! Более того, все в ее окружении с самого начала были убеждены в этом, как и она, и продолжали поддерживать Марию в ее заблуждении даже после того, как сами начали сомневаться. В последний период Марию обманывали все: лекари, повитухи и фрейлины. Для задержки наступления родов они находили массу причин, кроме истинной, и всячески уверяли королеву, что ее надежды оправдаются. Говорили, что ее бабушка Изабелла родила Екатерину в пятьдесят два года и такие случаи вовсе не редки. Срок ожидаемых родов прошел? Значит, ошиблись в расчетах, но не в диагнозе.
Лекари и повитухи сделали новые расчеты и торжественно объявили: ребенок должен появиться либо в новолуние 23 мая, либо после полнолуния 4 или 5 июня. Мария успокойлась и продолжала ожидать, но чем дольше длилось это ожидание, тем больше усиливалось нервное напряжение. Она становилась все более замкнутой, часами сидела на одном месте, борясь с депрессией и тревогой. Такое поведение было совсем для нее не характерно, и те, кто видел ее в эти дни, говорили, что она выглядит бледной и больной. Но самое главное — все они замечали, что в том положении, в каком Мария сидит, ни одна беременная женщина находиться не может, потому что будет испытывать значительную боль. Мария сидела на полу, подтянув колени к подбородку, а ее живот был при этом сжат настолько, что выглядел почти плоским.
21 мая сообщили, что «живот Ее Величества сильно опал, что указывает на приближающиеся роды». Один из лекарей Марии, доктор Калагила, объявил, что королева уже определенно на последнем месяце и что роды могут начаться «теперь в любой день». И в то же время Руй Гомес написал, что видел ее прогуливающейся по саду такой легкой походкой, которая, по его мнению, невозможна при беременности на последнем месяце. Жизнь при дворе и в правительстве замерла. В ожидании вестей из покоев королевы потерявшие терпение придворные и раздраженные сановники слонялись по дворцовым галереям, обмениваясь слухами и тревожными взглядами. «Все в тревоге и ожидании, — писал Мишель, — и все здесь зависит от результатов этих родов».
В Лондоне не утихало смятение, вызванное разочарованием из-за ложного объявления 30 апреля о рождении наследника. Каждые несколько дней па улицы выбрасывались новые клеветнические листки, направленные против Марии, возбуждая страхи и подстрекая к бунту. В одних утверждалось, что королева умерла, в других — что «милостью Божьей скоро будет восхождение на престол Елизаветы». В тавернах, на улицах — повсюду, где собирались люди, велись подстрекательские разговоры. Филипп был этим так обеспокоен, что обратился к отцу за советом, спрашивая, что он должен предпринять против этой клеветы, самих клеветников и огромного количества самозванцев, объявляющих себя королем Эдуардом. Одного из таких шарлатанов 10 мая доставили в Совет, а через несколько дней в Кенте схватили восемнадцатилетнего юношу, который объявлял себя полноправным правителем Англии и «поднимал среди населения смятение». Его привезли в Лондон, выпороли и отсекли уши, затем парядили шутом и провезли по городу. На его груди висела табличка, где говорилось, что он только слепой исполнитель чужой воли. Но до того как его схватили, многие крестьяне поверили, что это действительно король.

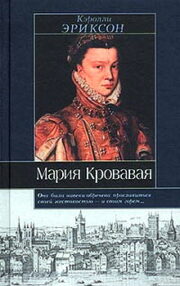
"Мария Кровавая" отзывы
Отзывы читателей о книге "Мария Кровавая". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Мария Кровавая" друзьям в соцсетях.