В первые две недели июня было сожжено восемь человек, и эта «внезапная вспышка жестокости» вызвала всеобщее негодование. В июле волнения были отмечены в графстве Уорикшир, и еще большие беспорядки ожидались в Девоншире и Корнуолле. И снова был призван Пембрук — остановить волнения, прежде чем они получат широкое распространение. Английские протестанты на континенте утверждали, что между недавними сожжениями еретиков и крушением надежд королевы на материнство существует прямая связь. Говорили о Гардинере, который убедил Марию, что ее околдовали протестанты, и что она, страшась за свое будущее, предоставила епископу свободу действий, чтобы жестоко истреблять истинно верующих. Даже в Лондоне ходил слух, что Мария будто бы объявила, что ее ребенок не может появиться на свет, пока все еретики не будут посажены в тюрьмы или сожжены.
В июле доктора и повитухи перестали делать подсчеты. По их мнению, беременность королевы длилась уже одиннадцать месяцев, и если ей сейчас удастся все же родить здорового ребенка, то это будет просто настоящим чудом. Чудо! Именно его, казалось, все сейчас и ожидали. «Всеобщая убежденность и вера состояли в том, — писал Мишель, — что рано или поздно свершится чудо, как и во всех других обстоятельствах Ее Величества, которые с точки зрения человеческого понимания были в свое время более чем безнадежные». Ребенок Марии должен был раз и навсегда доказать всему миру, что ее делами «управляет исключительно Божественное провидение».
Мария плакала, молилась и ждала чуда. Ее молитвенник сохранился до наших дней. Страницы его истлели и все в пятнах. Слезы королевы, наверное, должны были чаще всего капать на страницу с молитвой за благополучное разрешение женщины от бремени.
ГЛАВА 43
Есть замок прекрасный на свете,
Который таится меж скал.
Живет в нем прекрасная леди,
От коей супруг ускакал.
К первому августа Хэмптон-Корт смердел не меньше, чем лондонские улицы. Во дворах и на кухнях гнили отбросы, а воздух в апартаментах и галереях был противным и затхлым. Постоянные дожди сделали невозможными верховые прогулки и охоту в дворцовых парках. Единственное, что оставалось придворным, — это сидеть в своих комнатах, выходя наружу только для того, чтобы присоединиться к религиозной процессии за разрешение королевы от бремени. Придворные скучали и злились. Во дворце давно уже не устраивали никаких празднеств и развлечений, их нарядные одежды висели в гардеробах, отсыревая во влажном воздухе.
Неожиданно, к невероятному облегчению всех, было объявлено, что двор переезжает из Хэмптон-Корта в Отлендс. Фактически это было признанием того, что затворничество Марии закончилось. Дворец-в Отлендсе был небольшим, но и число придворных тоже сократилось. Приближенные Филиппа уже в течение нескольких недель один за другим отбывали во Фландрию. Теперь двор покинул даже Руй Гомес. Дамы-аристократки, которые уединились с Марией почти на четыре месяца, приказали своим слугам собирать сундуки, возвращаясь в собственные летние дома. О том, что королева и ее лекари расстались с надеждой на появление ребенка, официально никто не объявлял. Вместо этого Мария и самые доверенные советники Филиппа продолжали настаивать, что она па шестом или "седьмом месяце, однако все знали, что это говорится только «ради того, чтобы не отбирать у населения надежду». Но долго дурачить народ все равно было нельзя, и все уже давно не хуже иностранных послов знали, что «беременность королевы закончилась ничем».
Но скорее всего народ принимал все это не так близко к сердцу, как полагали Ренар и другие представители императора. Угроза мятежей была не столь серьезной, как это описывал в своих донесениях посол. Бунт в Уорикшире на самом деле оказался чем-то вроде беспорядков на местном рынке против бессовестных спекулянтов зерном. Дело довольно серьезное, но никакой угрозы королеве в нем не было. Волнения в Девоне и Корнуолле были не штормом, а всего лишь мелкой рябыо, вызванной россказнями о смерти королевы: в ответ на заявления, что королева ежедневно появляется в окне своих дворцовых покоев, говорилось, что это обман, что в окне видна не королева, а ее восковая фигура. Другой предполагаемый мятеж оказался не чем иным, как обычным спором между землевладельцем — и арендаторами.
Повышение цен на зерно и пиво волновало крестьян больше, чем странная бесплодная беременность королевы. На размокших полях гнил скудный урожай. Не было запасено зерна — пи для выпечки хлеба, ни для варки пива. Не было корма для скота, а также сена и овса для лошадей. В некоторых районах был отмечен массовый падеж овец, а оставшихся распродали за бесценок. Обычно август в Англии был месяцем изобилия, но в том году повсеместно царили только нужда и страх грядущего голода. Направляясь 3 августа на восток, в Отлендс, король и королева не встретили по пути ничего, кроме тощих фермерских земель и тощего скота, и лица крестьян, кланяющихся им в пояс, тоже все были тощими.
Кто надоумил королеву переезжать в Отлендс, не ясно. Сама Мария, возможно, стремилась в это время смириться с правдой, и сочувствующие ей фрейлины помогли принять это трудное решение. В соответствии с одним из свидетельств в ее свите была по крайней мере одна фрейлина, которая не стала тешить себя иллюзиями о беременности. Госпожа Фридсвайд Стрили, «добрая благородная женщина», никогда не вторила Сюзанне Кларепсье и повитухам, успокаивающим Марию. За ней Мария и послала, когда уже не могла больше переносить душевную боль, связанную с ложными надеждами. Они сердечно поговорили, и королева поблагодарила ее за стойкость.
«Я теперь вижу, что все они были льстецы, — сказала королева, — и никто не сказал мне правду, кроме тебя».
Обосновавшись в Отлендсе, Мария возвратилась к своей привычной ежедневной работе. Чиновники начали исполнять свои обязанности, а королева возобновила общение с советниками и аудиенции. Правда, встреч с послами и другими государственными сановниками она никогда не прекращала, даже во время ее «полного затворничества». Одна из этих встреч была посвящена неудавшейся мирной конференции. Папский протонотарий Ноайль, брат французского посла, говорил с Марией в Хэмптон-Корте в июле. Он нашел, что она полностью осведомлена о ходе переговоров и не питает иллюзий по поводу упорства французов. Мария сказала ему «полусердито», что по причине ее обязанностей по отношению к супругу и свекру вряд ли можно ожидать, что она достаточно долго останется нейтральной, добавив, что если конференция потерпела неудачу, то это не вина английских посланников. Королева сказала, что «винить нам можно только самих себя, за грехи и дурные черты характера, а также неблагоприятные времена, хотя гнев Божий пока на нас еще в полной мере не излился».
Но если Мария имела такие взгляды на международную политику, то, быть может, она придерживалась той же самой логики и применительно к своей ситуации. Ее уверенность в Божьей направляющей силе была поколеблена, но вполне возможно, она нашла некоторые объяснения случившемуся в том, что греховность ее возраста требует наказания. Если Господь смог использовать ее для свержения тирании и восстановления церкви, то он может также использовать ее бесплодие, чтобы подвергнуть наказанию ее людей за их rpe хи. Утешившись таким невеселым образом, Мария снова принялась вести привычную жизнь, общаясь с придворными, пока наконец сама «собственными устами» не призналась, что, ви димо, беременности все-таки не было.
Филипп приехал в Отлендс разочарованный. Надежды на рождение наследника рухнули. Зато он получил во владение королевство. Карл V наконец решился передать свои земли наследникам, причем лучшую из этих земель, королевство Нидерланды, он отдал Филиппу. Самому императору править дальше было невозможно, мешали подагра и неустойчивое психическое состояние. Ему требовались тишина, покой и солнце, а в Брюсселе он занимался непосильным трудом при отвратительной погоде и постоянной угрозе войны. Летом 1555 года его недомогание обострилось настолько, что пришлось везти целебные воды из Льежа. По дороге между Льежем и Брюсселем через равные промежутки расставили мулов, которые везли бурдюки с водой, передавая их по эстафете вплоть до императорского дворца. Лекари Карла V предписали королю, чтобы он принимал лечебные ванны по крайней мере каждые двадцать четыре часа, но поскольку оставить свой рабочий кабинет и поехать на курорт он не мог, курорт доставляли ему.
Сестра Карла, Мария, приняла решение отказаться от власти одновременно с ним, чтобы дать возможность править Филиппу. Судя по ее последующему поведению, она никоим образом не жаждала передавать власть, но пошла на это из почтения к брату. Официальное письмо, которое Мария написала Карлу в августе, где сообщала о своем решении, изобилует вежливыми формулами куртуазпости и самооправдания. «Я уже давно ощущаю свою непригодность, — начинала она, — и потому решила последовать Вашему примеру и тоже отказаться от престола, осознавая, что если мудрый Карл почувствовал необходимость удалиться от дел, то и мне самой следует немедленно ощутить ту же самую необходимость с учетом моей неполноценности как женщины». Далее она призналась, что ее способности по сравнению с мужскими — это все равно что «сравнивать черное с белым» и что во время войны ни одна женщина, какой бы одаренной она ни была, Нидерландами править не сможет. Что касается ее будущего, то здесь у Марии Фландрской желания были более чем скромные. «В любом случае, — заявила она, — править я больше нигде не собираюсь. Мне всегда хотелось ухаживать за матерью в старости, но теперь, когда ее больше с нами нет, я предпочла бы за лучшее жить в Испании с сестрой Элеонорой, вдовствующей королевой Франции».
Филиппу принимать власть над Нидерландами хотелось не больше, чем его тетке эту власть отдавать. Он жаждал покинуть Англию, но не для того, чтобы править фламандцами, которые его ненавидели. Филипп через Руя Гомеса сообщил отцу, что сразу же после его отречения от престола хотел бы возвратиться в Испанию, и умолял отца больше никогда не посылать его в Англию. Одного года с лихвой достаточно. Но Карл сам планировал удалиться в Испанию, и в связи с этим для него было очень важно, чтобы сын находился во Фландрии, особенно теперь, когда война с Францией казалась неизбежной. Все, чего Филипп достиг в Англии, можно потерять, если он отъедет от Лондона на значительное расстояние, но от Брюсселя до его островного королевства всего лишь пять дней пути, не больше. Англию необходимо обязательно сохранить! В глазах иностранных послов он был несомненным правителем, и аккредитованные при английском дворе португальский и венецианский послы предполагали последовать за ним в Брюссель, чтобы находиться ближе к тому месту, где вершится английская политика.
Перед отъездом Филипп вел себя, по сути, как настоящий король. Он даже напугал кардинала Поула, появившись в его покоях, «весьма приватно и лично», чтобы сказать кардиналу, что в свое отсутствие передает руководство английским правительством ему. А на следующий день он повторил это перед всем Советом, повелев советникам «подчиняться ему[54] во всем». «Все общественно важные дела» должны решаться в соответствии с «мнением и советом» кардинала, в то время как «личные и бытовые дела» пусть рассматривает один Совет. Королеве в этом распоряжении вообще места не оставалось, да и в своей последней речи Филипп ее даже не упомянул.
Мария, возможно, думала об этом, когда готовилась сопровождать Филиппа в Гринвич, где он должен был сесть на корабль до Грейвсенда, а затем сухопутным путем добраться до Кентербери и, наконец, до Дувра, чтобы дальше плыть до фламандских берегов. Филипп должен был отправиться через Лондон до пристани в Тауэре верхом, а там его в своей барке должна была ждать Мария, чтобы дальше плыть вместе с ним вниз по реке до Гринвича. Но в последнюю минуту Мария решила проделать путь до пристани рядом с супругом, в открытом паланкине, а также с Поулом, лорд-мэром и главами гильдий, несущими перед ней символы королевской власти. Инстинкт подсказал королеве, что нужно показаться лондонцам, многие из которых поверили в ее смерть. Она надеялась, что горожан обрадует ее появление на улицах столицы. В городе в это время было полно крестьян, приехавших на Варфоломеевскую ярмарку, и потому на всем пути движения королевской процессии было полно народа. Услышав, что едет королева, люди «все ринулись вперед, чтобы увидеть получше; они как будто все обезумели в своем желании удостовериться, что это действительно она, а узнав и обнаружив ее в состоянии лучшем, чем когда-либо, они выражали ей свою преданность радостными криками и приветствиями». Своим появлением Мария затмила, а значит, и переиграла Филиппа, хотя на всем пути следования его тоже сердечно приветствовали.
29 августа Филипп поднялся на борт корабля в Гринвиче. С Марией он попрощался наедине, но затем она настояла, чтобы пройти с ним до верха лестницы, где его придворные все поцеловали ей руку. Присутствующий при этом Мишель заметил, что Мария, «став женой, очень хорошо умела выражать печаль», точно так же, как, став королевой, могла выражать достоинство. Было очевидно, что «внутренне она глубоко опечалена», но Мария позаботилась о том, чтобы этого не обнаружить, «вынуждая себя все время на виду у такой толпы избегать любого выражения эмоций, не подобающих ее сану».

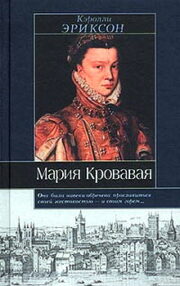
"Мария Кровавая" отзывы
Отзывы читателей о книге "Мария Кровавая". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Мария Кровавая" друзьям в соцсетях.