В первую брачную ночь Белый Шалфей обнаружила, что у ее мужа странная привычка спать голым. Люди ее племени всегда спали в той же самой одежде, которую носили днем, хотя Белый Шалфей помнила, как белые учителя объясняли, что белые люди, ложась в постель, надевают для сна особое платье. Но Смеющиеся Глаза не надевал ничего и настаивал на том, чтобы и она делала то же самое. Постепенно и Мэри привыкла к этой его необычной причуде.
Но все это было в прошлом.
Теперь он был здесь и улыбался ей. Белый Шалфей нетерпеливо пошла навстречу мужу, и он крепко обнял ее. Прижав к себе молодую женщину, Фолкнер наклонился и прижался щекой к ее щеке.
– Я скучал по тебе, – хрипловатость голоса, прошептавшего эти слова ей на ухо, напомнила женщине шум ветра, раскачивающего вершины кедров. – Мне кажется, что я живу только тогда, когда я рядом с тобой.
Она ощущала голод в его руках, скользнувших по ее телу, и понимала, что он чувствует: муж не мог дождаться ночной поры и ему кажется, что время тянется медленнее, чем хотелось. Сделав над собой усилие, он поднял голову, оторвавшись наконец от ее щеки, и нежно провел ладонью по лицу жены.
– Я беспокоился о тебе. У тебя все было хорошо?
– Да, – ответила женщина и посмотрела на мальчика. – Он мне все время помогает.
– Рад это слышать, – мужчина слегка ослабил объятия, посмотрев на сына. – Потому что я привез ему кое-что еще. Посмотри-ка, парень, что там лежит в задней части кузова.
Мальчик опрометью бросился к опущенному заднему борту грузовика. Его синие глаза округлились от изумления.
– Седло! Ух, здорово!
Взобравшись в кузов, он взял в руки и поднял вверх красивое, обитое тисненой кожей седло, чтобы показать его матери. Держать на весу большое седло было очень неудобно, но мальчик не подавал виду, что ему тяжело.
Подарок непременно требовалось опробовать, не откладывая. Это означало, что надо поймать лошадь, бегающую в коррале, и приладить на нее новое седло. После того, как поводья были укорочены, Тот-Кто-Должен-Идти-Двумя-Путями вскочил на лошадь. Он проскакал по большому кругу перед хоганом, демонстрируя свое умение перед родителями.
– Хотел бы я, чтобы Чэд ездил верхом так же хорошо, – пробормотал Фолкнер и тут же пожалел о том, что упомянул о своем старшем сыне.
– Наш ездил верхом еще с той поры, когда был ростом не выше стебелька юкки.
Белый Шалфей, говоря о Том-Кто-Должен-Идти-Двумя-Путями, избегала называть сына по имени, поскольку слишком частое употребление имени изнашивает его. Поэтому у всех Людей было по нескольку имен. Их сын, кроме своего тайного имени, имел еще прозвище Голубоглазый, а также имя, которое ему дали в школе, – Джимми Белый Шалфей.
– Сегодня он сказал мне, что нам надо завести овец, чтобы он мог следить за ними, – сказала Белый Шалфей. – Он не хочет ходить в школу, потому что ребята говорят, что он не относится к Людям.
– Он не индеец, – с чувством произнес ее муж, но тут же умерил резкость и объяснил более спокойно: – Знаю, что дети от смешанных браков часто считают, что они принадлежат к Людям, но я не хочу, чтобы наш сын отрицал, что он наполовину белый. Он должен закончить школу. Он будет продолжать учебу в колледже. Он получит самое лучшее образование, какое я только смогу ему дать. Мы уже говорили с тобой об этом, и я не собираюсь менять свои планы.
– Ты должен поговорить с ним, – сказала Белый Шалфей. – Ему не нравится быть не таким, как все остальные.
– И тем не менее он другой… и это только начало, – мрачно объявил Фолкнер. Затем он взглянул на жену и улыбнулся.
Но эта улыбка только еще больше встревожила женщину. Белый Шалфей увидела, насколько она неискренна, и тяжелое предчувствие охватило ее.
– Я поговорю с ним, – пообещал мужчина.
Он помахал мальчику рукой, чтобы тот подошел к нему. Тот-Кто-Должен-Идти-Двумя-Путями неохотно направил гнедую лошадь к ограде корраля, где ждал его отец. Белый Шалфей наблюдала, как Смеющиеся Глаза схватил уздечку и придержал лошадь, чтобы сын мог спрыгнуть на землю. Затем она повернулась и вошла в хоган, чтобы начать готовить обед.
Фолкнер повел лошадь в корраль.
– Что это я слышал насчет того, что ты хочешь оставить школу? – спросил он с кажущейся небрежностью, пока мальчик, поднявшись на цыпочки, распускал подпругу.
– Они говорят, что мы бедные, потому что у нас нет овец. Но мы не бедные, и потому должны завести овец, чтобы они все заткнулись. Когда ты купишь овец, я буду присматривать за ними. Я уже достаточно взрослый, – он ни разу не взглянул на отца, избегая его испытующего взгляда.
– И это единственная причина, по которой ты не хочешь ходить в школу?
Вопрос был встречен молчанием.
– Ребята насмехаются над тобой в школе, потому что ты не такой, как они? – спросил мужчина, так и не дождавшись ответа.
– Я не другой. Я такой же, как они.
– Знаешь, сынок, они правы. Ты – другой. И не надо тебе убеждать всех, что ты индеец. Ты ни индеец, ни белый. И в то же время в тебе течет кровь индейцев и кровь белых. Нет ничего плохого в том, чтобы быть не таким, как все…
Мальчик по-прежнему не смотрел на отца.
– Будь тем, кто ты есть, – твердо продолжал мужчина. – Всю твою жизнь индейцы будут ждать от тебя, что ты проявишь себя большим индейцем, чем они сами, а белые – что ты будешь более белым, чем сами белые.
Голубые глаза ребенка хмуро и встревоженно глядели на отца.
– Как же мне быть двумя разными людьми?
– Узнавай все, что можешь, о Людях и узнавай все, что можешь, о белых. Бери от каждой стороны все самое лучшее и самое мудрое, что у них есть, и усваивай это. Ты понял?
Мальчик помолчал в нерешительности, а затем спросил:
– А как я узнаю, что самое мудрое?
– Вот это ты сам должен решать, – грустно улыбнулся Фолкнер. – Я тебе в этом помочь не могу, и мать помочь не может. В этом тебе придется быть одному. – Он, пожалуй, только сейчас по-настоящему начал понимать, как трудно придется сыну, когда тот из мальчика превратится в мужчину. Он посмотрел в сияющее небо над их головами и увидел одинокого сокола, парившего в воздушных струях. – Ты должен стать таким, как этот сокол… одиноким… не рассчитывающим ни на кого, кроме самого себя. И летающим высоко надо всем.
Запрокинув голову, мальчик неотрывно смотрел на сокола, на его крылья, без малейшего усилия распростертые в полете. На небе не было ни облачка, и сокол торжествующе парил в бездонном пространстве.
– С этого дня я становлюсь другим, – объявил мальчик серьезно. – Теперь меня будут звать Джим Белый Сокол. – Он повернулся к отцу. – Тебе нравится это имя?
В светло-голубых глазах мужчины засветилась гордость.
– Да, мне оно нравится, – ответил он.
Глава 2
Этим летом в животе его матери зародилась новая жизнь. А Сокол, начавший после разговора с отцом размышлять о самом себе, обнаружил, что на свете существует многое, о чем следует подумать, и всматривался в окружающее новыми глазами – острыми и зоркими, как у птицы, именем которой он назвался. Когда осенью пришла пора идти в школу при резервации, он внимательно слушал белых учителей, не сопротивляясь более тому в их словах, что противоречило верованиям Людей. Школьные товарищи продолжали по-прежнему подшучивать над его голубыми глазами и вьющимися волосами, но теперь он не обращал на это никакого внимания. Он оставил все попытки выпрямить волосы и перестал носить головную повязку, удерживающую прежде его непокорную черную гриву. Сокол знал, что он – другой, не такой, как его сверстники из резервации, а поскольку он – другой, он собирался стать самым лучшим.
Еще до того, как наступила весна, у него родилась сестра. Сокол с интересом заметил, что и она – другая, хотя и на иной лад. У малышки были большие карие глаза, как у матери, но волосы не черные и блестящие, как вороново крыло, а каштановые, как кедровая кора. Оттого ее и назвали Девочка-кедр.
Сокол начал звать сестренку Та-Которая-Плачет-От-Всего-На-Свете. Она плакала, когда была голодна, когда ей хотелось спать, когда слышала громкий шум, когда мать брала ее на руки и когда клала ее в колыбель. Ничто и никто не мог успокоить ее, за исключением Смеющихся Глаз. Вначале Сокол испытывал приступы ревности и обиды, глядя, как родители хлопочут вокруг девочки. Его дела отошли на второй план, вся забота и ласка отдавалась теперь новорожденной. Теперь он был одинок, как сокол, выброшенный из гнезда и оставленный без присмотра. Но он мог сам о себе позаботиться. Разве он уже не взрослый? Разве он не стал носить набедренную повязку? Разве он не прошел обряд посвящения в племя? И Сокол начал жалеть сестру, потому что малышка во всем зависела от других.
Малышка отнимала у матери почти все время, и Соколу пришлось взять на себя больше ответственности, чем прежде. Отец по-прежнему приезжал два или три раза в неделю, привозя еду и подарки, и оставался у них на несколько часов или на часть ночи, но всегда уезжал до рассвета. И поэтому на плечи Сокола легли заботы, которые достались бы отцу, если бы тот жил с ними все время.
Так, когда заболел дядя его матери и было сказано, что для того, чтобы его излечить, необходимо провести Путь горной вершины, то все родственники должны были сложиться, чтобы оплатить лечение. Все другие люди клана договорились пригнать овец и устроить угощение для нескольких сотен – а возможно, и не менее тысячи – гостей, которые соберутся, чтобы стать свидетелями церемонии. Сокол взял на себя обязанность обеспечить топливо для очагов – это будет вклад его матери в общий котел, хотя она сама каждый день бывала в доме дяди, чтобы помогать его семье в приготовлениях.
Уроки в школе в тот день закончились рано. Это было очень кстати – Сокол беспокоился о том, сколько дров он успеет нарубить до темноты. Мелкий снежок, сеющий с неба, ему не помеха. Но снег усиливался. Из серых облаков, затянувших небо, сыпалась теперь густая колючая крупа.
«Значит, белые учителя верно предсказали снежную бурю», – подумал Сокол.
К тому времени, когда мальчик добрался до хогана, поднялся яростный ветер, закруживший в воздухе белые хлопья. В снежном месиве было трудно что-либо разглядеть, но Соколу не пришлось входить в дом, чтобы понять, что там никого нет. Над отверстием в крыше не вился дымок, значит, в очаге не пылает огонь. Сокол с трудом продирался сквозь пургу, уверенный, что мать и маленькая сестренка из-за снежной бури остались у дяди.
Когда Сокол проходил мимо корраля, он услышал лошадиное ржание. Мальчик, недоумевая, замер на месте: в коррале стояла гнедая в сбруе и хомуте. Сокол огляделся, но повозки во дворе не увидел.
Мальчик стал всматриваться в направлении дома дяди матери, но в снежном вихре он ничего не мог различить. И Сокол решился. Он не стал терять времени на то, чтобы снять сбрую и оседлать лошадь. Вскочив на спину гнедой, он подобрал поводья и связал так, чтобы были покороче.
Но лошадь не желала двигаться с места в бурю. Соколу пришлось бить ее ногами и хлестать вожжами, чтобы заставить покинуть безопасный корраль. Он направил ее в сторону хогана Кривой Ноги.
Ледяной ветер бил мальчику в лицо. Лошадь брела по снегу, который начал собираться в сугробы. Почти доехав до хижины дяди, Сокол увидел у русла пересохшего ручья занесенную снегом повозку со сломанной осью. Прикинув, что он никак не мог разминуться с матерью и сестренкой, Сокол двинулся дальше – к хогану Кривой Ноги.
Но, к изумлению мальчика, в хогане дяди матери не было. Сокол задержался в хогане только для того, чтобы согреть продрогшее до костей тело. Родные пытались уговорить его остаться до тех пор, пока не утихнет снежная буря.
Но мальчик и слышать ничего не хотел. Единственное, что могли сделать родные, – это дать ему теплое одеяло. Сокол завернулся в него и снова отправился на поиски.
Тревога и страх гнали его вперед, но все попытки Сокола продвигаться быстрее были обречены: лошадь увязала в снегу, спотыкалась, и наконец ноги ее словно подломились, она рухнула в глубокий пушистый снег. Сокол спрыгнул с лошади и тут же провалился в сугроб.
Занемевшими, непослушными пальцами он привязал вожжи к сбруе и освободил гнедую. На ее ворсистой попоне налипли снег и лед. Так лошадь, может быть, спасется от холода и сумеет добраться до родного корраля.
А как ему самому спастись от стужи и пронизывающего ветра? Впереди, почти занесенная снегом, громоздилась груда валунов. И мальчик решил переждать здесь непогоду. Он свернулся за камнями калачиком. Одеяло он накинул на себя, как палатку. Сокол не думал о том, что может случиться с ним, если погода не изменится. Как и все индейцы, он безропотно принимал любые обстоятельства, в которых оказывался. Мальчик словно оцепенел – один в этой круговерти снега и ветра, в которой не существовало ничего, кроме слабой искры тепла, горящего внутри его и называемого жизнью.
Текло время, которого Сокол не замечал, он сидел неподвижно, прикрыв глаза. Снег запорошил укрывшее мальчика одеяло, под которым еще теплилась жизнь Сокола и билось его маленькое мужественное сердце.

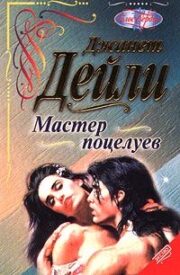
"Мастер поцелуев" отзывы
Отзывы читателей о книге "Мастер поцелуев". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Мастер поцелуев" друзьям в соцсетях.