Но когда меня окутала тишина и темнота, я понял, что не только мое нежелание терпеть унижение не позволяет мне отважиться на подобный шаг. Тому была и еще одна причина, намного более веская – нескончаемая горькая печаль и болезненная радость, которые жили в самой глубине моего сердца. То дружеское общение и товарищеские отношения, которых я жаждал, те плотские желания, удовлетворить которые я стремился, стали бы настоящим предательством по отношению к моему собственному сердцу, сохранившему незапятнанную память о недолгом счастье и беззаветной любви.
Перед тем как задуть свечу, я опустил протез на пол рядом с кроватью… Ощущение конечности было настолько реальным, что во сне ко мне иногда возвращалось чувство прежнего счастья, когда я мог ходить и бегать, как все люди, а тело мое было одним целым. Иногда мне снилась Испания, и когда я, не до конца проснувшись, задевал рукой протез, только это случайное касание удерживало меня от попытки встать и двинуться по воздуху. Но потом наступало окончательное пробуждение, и я вновь вспоминал о том, что я калека. В остальные ночи я лежал на пуховой перине в своей кровати, и мне не снилось вообще ничего. Не были они похожи и на ночи, проведенные под небом Испании, которое некогда простиралось надо мной подобно черному бархату, вытканному огромными, как зеркала, звездами. Впрочем, я говорил себе, что нет на свете мужчины, достигшего моего возраста, которого его прошлое не беспокоило бы во сне, когда ангел-хранитель спит и темнота скрывает приближение старого доброго недруга.
Но написать об этом мисс Дурвард я, естественно, не мог. Я даже не рискнул рассказать ей о портрете, не говоря уже о первопричине, которая побудила меня заказать его. Она расспрашивала меня, а я добросовестно отвечал ей лишь о деталях военной формы, о дислокации войск, о пейзаже, о Коруне, о протяженности и значении оборонительных порядков у Торрес Ведрас. Она прислала мне набросок расположения 95-го полка у местечка Катр-Бра с просьбой исправить то, что я посчитаю нужным, и попросила описать несколько эпизодов из армейской жизни.
…Как бы мне ни хотелось провести остаток дня, отвечая на ваши вопросы как можно более полно и подробно, в том, что касается Коруны, я вынужден отослать вас к опубликованным мемуарам и отчетам, поскольку меня там не было. В моих воспоминаниях о 1808 годе сохранились лишь ужасы отступления нашей бригады легкой кавалерии к Виго, когда мы, усталые и измученные, брели сквозь метель и буран, играя роль наживки и стараясь отвлечь на себя как можно больше французских войск. Я помню и о том, какая скорбь охватила нас, когда мы узнали о гибели под Коруной благородного сэра Джона Мура, создателя и доброго гения нашего полка. Эти воспоминания никогда не сотрутся из моей памяти…
Вам следует знать, что мы по праву гордились тем, что наш 95-й полк первым вступал в бой и последним выходил из него, поэтому с предопределенной неизбежностью мы сводили на нет иногда не слишком энергичные усилия нашей интендантской службы вовремя снабдить нас продовольствием и боеприпасами. Вот почему приобретенные нами навыки и успехи в добывании припасов менее ортодоксальными методами вскоре тоже получили широкую известность среди войск Пиренейской армии. Нам завидовали. Как-то голодным вечером в марте 1812 года мы наткнулись на двух молодых людей, одетых с той яркой галантностью, которая отличает кабальеро в этой стране, они несли с собой протестующих и вырывающихся из рук куриц. Я приношу вам нижайшие извинения за свои недостойные художества, надеясь при этом, что ваш талант позволит вам и из этого наброска извлечь пользу; в общем, я попытался изобразить их на обороте этого листа.
Мне очень жаль, что замечания знакомых испортили вашей матушке удовольствие от преподнесенного вами подарка в честь ее дня рождения. Я бы рискнул предположить, что ее любовь к Тому – и удовольствие, которое любой, кто знает его, должен испытывать при виде его очаровательного портрета, написанного любящей рукой, – возобладает над взглядами тех, в ком требования морали заглушают голос человеческой привязанности. Но, очевидно, мне следовало сделать поправку на поколение, чьи вкусы сформировались без помощи рационального, разумного и естественного образования.
Притом что работы на свежем воздухе для меня находилось все меньше, а вечера становились все длиннее, я стал уделять больше времени ведению домашнего хозяйства, равно как и переписке с мисс Дурвард. Причем до такой степени, что буквально каждый день ожидал прибытия нового письма с таким нетерпением, каковое раньше мне было неведомо – ни когда я учился в школе, ни позже, когда служил в полку.
Однажды серым декабрьским днем я отправился в деревеньку верхом, чтобы навестить приходского священника. Я отпустил поводья, и моя старушка Дора лениво трусила по ухабистой и изрезанной колеями дороге, а вид, открывавшийся меж ее ушей, был достаточно уныл, чтобы полностью отвлечь мое внимание от окружающей действительности. Внезапно лошадь шарахнулась в сторону. Она испуганно перебирала ногами, попятилась, встряхнула у меня перед носом серебряной гривой и вырвала поводья у меня из рук. Мне показалось, что прямо из-под ее копыт выскочила маленькая девчушка и плача помчалась к дому с криком:
– Мама! Мама! Я потерялась.
– Надеюсь, она не пострадала? – крикнул я в темноту дверного проема, спешившись.
– Нет, сэр! – воскликнула мать девочки, появляясь в дверях и неловко кланяясь. – Вот тебе, плохая девочка! Ты напугала нашего доброго сквайра. Нельзя же бегать сломя голову. Только попробуй сделать так еще раз, и Бони[5] заберет тебя.
Я вспомнил давно забытого императора, пребывавшего, как мне было известно, в далекой тропической темнице, скучающего и нераскаявшегося. Так вот, он имел обыкновение выходить из туманной дымки, появляясь в наших мирных лесах и полях, облеченный плотью, которую даровал ему мрак, таившийся везде, зловещий и ждущий своего часа. Когда я наконец вскарабкался на лошадь и оглянулся, чтобы помахать им рукой на прощание, мне вдруг показалось, что мать и дочь, обнявшись, превратились в единое целое, став одним человеком.
Причиной моего свидания с приходским священником стал ремонт, который необходимо было провести в церкви до того, как зима нагрянет в наши края по-настоящему. Боннет, церковный сторож и пономарь в одном лице, покачал головой и завел речь о прохудившихся водосточных желобах и треснувших трубах для стока воды. Что до пастора, то он, сохранивший живость невзирая на ревматизм, в этот самый момент вскарабкался на лестницу, с грустью разглядывая две древние фигурки, Святого Луки и Святого Иоанна, которые стояли в нишах по обе стороны паперти и которые украшала черно-зеленая патина, образовавшаяся вследствие бесконечных дождей. Руки святых были отрублены по запястье, лица выглядели непроницаемыми и невыразительными, как если бы они ожидали, что вот сейчас откуда ни возьмись появится некий потусторонний зодчий, который сможет вернуть им прежние черты, стертые дождевой водой.
– Неужели вода причинила подобные разрушения? – полюбопытствовал я.
– Нет, нет, конечно, – поспешил уверить меня старый Боннет, – это случилось во время войны. Здесь повсюду остались ее следы, да еще и осада Колчестера внесла свою лепту.
– Во время войны? А, должно быть, вы имеете в виду Великий мятеж.[6]
– Ну да. Говорят, что тогда здесь творились такие же ужасы, как и во Франции несколько лет назад.
Пастор с кряхтением слез с лестницы и тяжело вздохнул.
– Увы, да. Страшно подумать, что все может повториться… А у нас в Восточной Англии они усердствовали особенно рьяно. Ну что же, Боннет, думаю, мы с тобой увидели все, что нужно. Ты, без сомнения, сообщишь мне, что думает по этому поводу каменщик? – Боннет благочестиво коснулся пряди волос надо лбом и принялся складывать лестницу. – А мы с вами, Фэрхерст, давайте вернемся в мой дом и выпьем по капельке согревающего, день-то нынче выдался холодный. Что скажете? – Я принял его предложение, и, выходя из калитки, он продолжил: – Пуритане проявляют крайне мало почтения к искусству наших предков.
– Равно как и к самим святым.
– Мне легче простить ненависть, которую они питают к языческим идолам, чем ярость, с которой они разрушают нашу общую историю. Кроме того, можно было бы ожидать, что пуритане будут поддерживать евангелистов, что бы при этом ни думали о папских прихвостнях, как они их называют. А, миссис Марш, я привел с собой майора, и мы бы не отказались выпить немного вина.
– Но в Испании мне довелось быть свидетелем того, какую власть эти идолы – даже папистские, католические идолы – могут иметь над людьми, – сказал я, ставя в угол тросточку и сбрасывая с плеч тяжелое пальто. – И того, как их не хватает во Франции. Люди обращаются к ним в поисках утешения и надежды.
Впрочем, я не стал упоминать о том, как болезненно воспринял свидетельства этого утешения, проведя несколько дней в Бера: эти воспоминания занимали слишком большое место в моем сердце, чтобы нуждаться в выражении.
– Разумеется, это вполне понятно, когда речь идет о простых, да к тому же еще и необразованных людях. Я поддерживаю переписку с одним из моих коллег, у которого приход неподалеку от Бристоля. Так вот, мы обсуждали его барабан двенадцатого века; и вообще он обладает поистине энциклопедическими знаниями, настоящий коллекционер древностей. Но все мы должны искать утешения, надежды и всего остального у Господа нашего Иисуса Христа. А теперь, поскольку вы пробовали этот напиток на его родине, скажите, какого мнения вы об этом шерри.
Пастор без особого труда уговорил меня остаться на ужин, и миссис Марш – золовка моей собственной экономки миссис Прескотт – засуетилась, расставляя тарелки и кушанья, пока святой отец зажигал лампы; зима была в самом разгаре, и уже пробило четыре часа пополудни.
Мы побеседовали о наших местных делах и обстоятельствах, например о том, что некоторые банки в последние несколько месяцев прекратили платежи, было очевидно, что вскоре и другие последуют их примеру.
– А если цена на зерно еще подскочит после столь бедного урожая, нас ждут большие неприятности, – заявил пастор. – И тогда будет достаточно нескольких недовольных, которые начнут разглагольствовать о реформах, чтобы на смену голоду пришел радикализм.
– Мне уже доводилось видеть нечто подобное.
– Действительно… Послушайте, Фэрхерст, чуть не забыл. Мне не хотелось бы показаться навязчивым… Короче говоря, относительно того вопроса, о котором мы с вами говорили весной…
Я поспешил избавить его от неловкости и сообщил, что мы с миссис Гриншоу пришли к полюбовному согласию о том, что не подходим друг другу.
– Но, я надеюсь, вы не совсем отказались от этой мысли, – заявил он, потянувшись к графину. – Я видел, как вы охотились верхом с собаками – какая женщина может требовать большего? Причем вам необязательно подойдет какая-нибудь романтичная девица, имейте в виду, а здравомыслящая, приятная во всех отношениях женщина, способная создать уют и комфорт и для себя, и для вас.
Я лишь вздохнул в ответ, поскольку возразить было нечего. Я не собирался объяснять пастору, что тому, кто однажды вкусил божественного нектара, чистая вода, которую он предлагал мне, кажется холодной и горькой. Он наклонился, подливая портвейн сначала в мой бокал, потом наполнил собственный.
– Я знаю, знаю. Розовые щечки и яркие глазки, да? Но в самом деле, вы, часом, не воспарили над землей нашей матушкой? Вы уже год как живете холостяком в Холле. Дружеские отношения имеют очень большое значение. Я знаю, что мы также говорим и о том, чтобы дать природный и наиболее естественный выход вашим страстям, ослабить давление и влияние, которое оказывает на ваш ум прошлое. Но как раз это наиболее часто приходит со временем. И новой привязанностью, кстати.
Я хранил молчание. Его доводы были правильными, справедливыми и хорошо мне знакомыми. Вероятно, только мерзкой погодой можно объяснить то, что они казались мне еще более унылыми и скучными, чем прежде.
Было очень кстати, что моя умница старушка Дора, несмотря на темную ночь, знала каждый камень и каждую выбоину по дороге домой, поскольку утешения, которого я искал так старательно, что заглянул даже на дно графина пастора, я так и не обрел.
После ванны я заснула. Я проснулась оттого, что свернулась калачиком и лежать было неудобно и холодно, зато я почти с радостью увидела вокруг облезлую краску и строгие прямые линии стен и кроватей. Здесь никак не могло оказаться того ужаса, который я видела во сне, холодного, мрачного ужаса, заполняющего собой все пространство. Только во сне в комнате царил мрак, и дверь была заперта.
Я перевернулась на спину. Жемчужные капельки воды высохли у меня на коже, вокруг стояла невероятная тишина. Вечер еще не наступил – в конце концов, я проспала не так уж и долго, – но полосы солнечного света на полу вытянулись, стали тоньше и выцвели, став похожими на любимую тенниску, повешенную для просушки на бельевую веревку. Воздух наполнился таинственным мерцанием, и создавалось впечатление, будто я открыла глаза под толщей золотистой воды. Тут снизу до меня донесся какой-то грохот, потом чей-то крик и снова грохот. Внезапно я осознала, что обнажена, и почувствовала, что замерзла, как бывает, когда из ванны уходят последние капли воды, торопясь и всхлипывая в сливном отверстии, а вам остаются только голые и мокрые стенки, которые еще дышат призрачным ушедшим теплом.

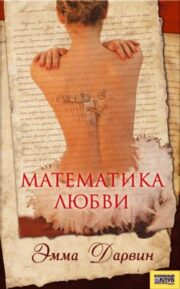
"Математика любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Математика любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Математика любви" друзьям в соцсетях.