— Этого я делать не стану. Он под моим покровительством.
Людовик величественным шагом вышел вон. Драгоценные украшения — подарок в знак мира, неучтиво оставленный на столе без единого слова, — были просто ужасны: такие тяжелые, что их впору было подвешивать на конскую сбрую. Я упрямо стояла на своем. Знала, что делаю. Не прошло и недели, как Людовик явился в мои покои с новой шкатулкой — маленькой, деревянной, резной. Без всяких извинений или объяснений сунул шкатулку мне в руки.
— Дарю вам, Элеонора. Пусть это напомнит вам о родном доме. Я знаю, что вам нравятся южные благовония, потому и заказал это для вас.
Я открыла шкатулку, из нее пахнуло ласковым ароматом цветков апельсина с несколько резкими тонами, от которых у меня в носу защекотало. Подарок сам по себе был ценен, но еще больше меня тронуло то, что Людовик так позаботился обо мне, постарался сделать что-то приятное. Поэтому я решила быть великодушной и отложила в сторону свое вышивание. Теперь наступило подходящее время, чтобы вернуть ему мою любовь. Я поцеловала мужа в щеку.
— Все нужное я приобрел здесь, у одного парижского купца, — объяснил Людовик, взял у меня шкатулку, прошагал через всю комнату к очагу и.
— Осторожнее, Людовик, надо понемножку. Щепоточку, и все… Вы взяли слишком много!
Людовик щедрым жестом бросил на огонь добрую пригоршню порошка. Здорово было, когда он чем-нибудь воодушевлялся.
Повалил дым. В нем была нежная прелесть аромата цветков апельсина, наверное, немного жасмина, а вот основа… Я принюхалась. Я бы не удивилась, если бы основу благовония составило сандаловое дерево или даже ладан. Я бы заказала именно такой состав. У нас на Юге сохранились многие секреты и навыки древних римлян, позднее усовершенствованные стараниями наших алхимиков. Но здесь было что-то совсем иное… Снова принюхалась. Одна из моих дам чихнула. Людовик сдержанно кашлянул. Потом закашлялся уже не так сдержанно: дым стал гуще и защипал ему горло.
Деваться от этого было некуда. Благовоние дымилось, дым наполнил уже всю комнату, и все мы стали чихать и кашлять. На глазах выступили слезы от какого-то чрезвычайно тяжелого, едкого запаха, в котором ощущалось нечто животное.
— Распахните окна, — распорядилась я, чуть-чуть отдышавшись. — И огонь погасите.
Без толку. Дым вился с прежней силой, раскрывая секреты своего состава, и весь воздух пропитался невероятной смесью запахов, напоминавших испарения болота. Вся нежность ароматов к этому времени давно улетучилась, а сквозняки от распахнутых окон лишь заново раздували почти угасший огонь.
Мы укрылись в одной из передних и там попытались отдышаться.
— Оно очень дорого стоило, — просипел Людовик, отчаянно протирая глаза и колотя себя по груди.
— Могу себе представить.
И я расхохоталась.
Ну конечно, мускус. Самый дорогостоящий и пользующийся наибольшим спросом ароматический компонент основы. Но с ним надлежит обращаться крайне осмотрительно, а если бросать на огонь вот так, от всей души, запах становится совершенно невыносимым. Начав смеяться, я уже не в силах была остановиться. Все кругом насквозь пропиталось мускусом: гобелены, сложенные из камня стены и мы сами.
— Вы просто перестарались, Людовик, — сумела наконец выговорить я. Однако король уже спешил прочь, не переставая чихать, а я тем временем старательно вытирала выступившие на глазах слезы. — Говорят, что запах мускуса можно учуять и через сто лет…
Мне не хватило дыхания закончить фразу.
— Кожа у нас неделю будет пахнуть — это и так слишком долго, — пробормотала Агнесса. — А ваши волосы, госпожа! Они просто провоняли этой гадостью. Кто только готовил сию смесь для его величества? Надо бы заставить их самих задохнуться в парах собственного изготовления.
— Не иначе, как главный конюший[36] — он же привык готовить мази для лошадей. А вообще говорят, что мускус возбуждает плотские желания…
Я снова расхохоталась.
— И вы сообщите об этом его величеству?
Мы хохотали, пока не обессилели окончательно, тогда только Агнесса велела слугам принести горячей воды, и мы взялись отмывать волосы и отскребать кожу. То, что еще осталось от подарка Людовика, мы отправили в уборную.
Бедняга Людовик! Даже самые добрые его намерения воплощались вкривь и вкось, зато мы хотя бы помирились.
На заседания Королевского совета меня по-прежнему не допускали.
Ребенка нашего я потеряла. И сама не пойму, отчего так получилось. Хотя животу меня еще не округлился и до родов было очень далеко, я перестала выезжать на охоту. Танцевала очень умеренно, ела и пила разборчиво. Ничто не должно было повредить драгоценному наследнику. Но вдруг среди ночи я ощутила приступ страшной боли, она мучила меня неимоверно, а ведь такого не должно было быть. Ребенок родился мертвым, такой бесформенный, что его и ребенком-то трудно было назвать, слишком маленький, чтобы самостоятельно дышать; даже пол я не могла определить, настолько недоразвитым был еще плод. Кровавый комок плоти и огромное разочарование. О той боли, которая рвала меня на части, пока плод выходил наружу, я даже не задумывалась — только о поселившемся в душе всепоглощающем чувстве утраты. Я потерпела поражение. Я подвела и Францию, и Аквитанию. Даже сама не ожидала, что стану так горевать.
Винил ли меня Людовик?
Нет, он ни в чем меня не винил. Сам он считал, что потерю навлек некий безымянный, неведомый грех, в коем он не покаялся, и оттого снова стал проводить долгие часы на коленях, вымаливая у Бога прощение.
Возможно, так оно и было. Или же то был мой грех?
Когда я рыдала, когда боль была почти невыносимой, меня держала за руку Агнесса, а не Людовик, которому вход в комнату роженицы был закрыт, как и всем мужчинам.
— Что говорят во дворце, Агнесса? — поинтересовалась я, когда горе немного притупилось, уступая место пустоте окружающей меня действительности.
Она поджала губы.
— Кого винят теперь? — не отставала я от нее.
— Дитя родилось преждевременно, — красноречиво пожала она плечами. — Виновата в этом всегда бывает только женщина. Таково бремя, возложенное на нас.
Едкий ответ, но не лишенный сочувствия. Я понимала, что она права.
Что же до Людовика, то отчаяние повергло его на колени, однако не помешало найти время и прогнать от двора Маркабрю. Я не знала, что моего трубадура больше нет при дворе, пока не стала выходить из своих покоев. Лишь тогда мне передали, что Людовик отослал его назад в Пуатье — с тем условием, что в Париж он никогда не воротится. Мне очень не хватало его, не хватало яркого южного колорита его стихов, не хватало музыки, которая помогла бы мне, наверное, залечить свои раны. Душа моя болела, но в душе я боль и скрывала. С Людовиком на эту тему я даже не заговаривала. Он намеренно отомстил мне таким образом. А я считала его не способным на такое.
Мне кажется, именно в те дни мое сердце стало ожесточаться против короля Франции.
Глава седьмая
Опасности я не замечала, но вдруг где-то споткнулась и оказалась на скользком склоне, который грозил увлечь меня в разверзшуюся бездну. Во всем виновата я сама. Если бы все мои мысли не были так поглощены потерей ребенка и невниманием Людовика, я бы ни за что не забыла об Аэлите. Да и какое зло могло приключиться с нею в Пуатье, где все ее знали и любили? Вообще-то мне бы следовало помнить, что она — натура чересчур страстная, до самозабвения. Но если уж говорить по справедливости, я даже и представить себе не могла, каковы окажутся последствия той свободы, какой она пользовалась в Пуатье.
В Париж она возвратилась, сияя от счастья; давно ее такой не видела.
— Аэлита! — Мы крепко обнялись. — Я скучала по тебе…
— Прости меня, Элеонора. Мне следовало находиться здесь.
— А что ты такого натворила? — Я присмотрелась к ней внимательнее, с проснувшимися внезапно подозрениями. — Что-то ты выглядишь не в меру довольной.
— Ах, Элеонора! Я влюблена.
— И кто же из трубадуров на этот раз?
Я рассмеялась, почувствовав, что на душе стало немного легче.
— Никто. — Ее лицо стало очень серьезным и непривычно взрослым. — Я влюблена в Рауля де Вермандуа. Я желаю его. Хочу стать его женой, и, Бог свидетель, он тоже стремится ко мне. Ты нам поможешь?
Рауль де Вермандуа! Тот мужчина, на которого Аэлита положила глаз еще на моем брачном пиру. Граф Рауль, сенешаль Франции, у жены которого такие влиятельные родственники. Аэлиту пора было выдавать замуж, я давно ей об этом говорила, однако она тогда и слушать ничего не захотела. А отчего? Оттого, что мечтала о Рауле де Вермандуа. А почему она осталась в Пуатье? Да чтобы быть с ним рядом: Людовик приказал ему остаться там, за всем наблюдать и душить в зародыше любой возможный мятеж.
Сейчас Аэлита говорила требовательно, а пальцы ее крепко сжали мою руку:
— Я люблю Рауля Вермандуа.
Такие простые слова, но они стали началом таких страшных бед, каких я и вообразить себе не могла. Не могла даже подумать, что именно Аэлита невольно причинит мне столько горя. Я ведь хотела как лучше. Я только стремилась к тому, чтобы она была счастлива, чтобы достигла в этой жизни того, чего мне не удалось, чтобы рядом с ней был мужчина любимый и любящий. Я не предвидела тогда, какие несчастья это навлечет на нее, на Людовика, на меня. Почему не предвидела? Да потому, что никто тогда не был в состоянии этого предугадать.
— Расскажи мне все, — попросила я.
И она рассказала, с сияющими глазами, не в силах усидеть на месте, а в каждом слове так и бурлила неистовая страсть. Все произошло, как я уже и сама догадалась, в Пуату. В конце лета, когда стояли ясные погожие дни, самое подходящее время для охоты, когда нет никаких забот, а до вечера далеко. В эти дни все и решилось. Аэлита и граф Рауль, почувствовав, что на них не устремлено слишком много заинтересованных пристальных взглядов, перестали притворяться, будто их не влечет друг к другу какая-то неведомая сила.
Я привела ей все возможные доводы. В подобную связь она не может вступить с завязанными глазами.
— Он женат, Аэлита.
— Знаю.
— А у его жены очень влиятельные родственники. И у графа есть дети.
— И это я знаю.
— Да ведь он по возрасту тебе в дедушки годится!
— Он меня любит. И он гораздо больше мужчина, нежели Людовик!
Это было верно. Я вздохнула.
— А отчего ты так уверена, что он не влюблен в твое приданое сильнее, чем в твою душу и тело?
Аэлита была женщиной богатой, желанной невестой для любого, ибо ей принадлежали обширные имения в Нормандии и в Бургундии. Глупец был бы Вермандуа, если бы не видел, какую выгоду сулит брак с Аэлитой.
— Ему очень нравятся и моя душа, и тело.
Она зарделась.
Вот, значит, как. Я постаралась не показать, насколько потрясло меня то, чем сестренка занималась в Пуату.
— Ты с ним спала?
— Да уж чаще, чем ты с Людовиком! — ответила она язвительно, с чрезмерной, на мой взгляд, проницательностью. — Во всяком случае, когда Рауль смотрит на меня, то видно, что он желает меня как женщину, а не поклоняется, словно Мадонне.
— Аэлита!
— Но это же правда!
Возможно, и правда, только признавать ее мне вовсе не хотелось.
— Ну, пожалуйста, Элеонора, — гнула свою линию Аэлита, целиком поглощенная собственными заботами, — поговори с Людовиком. Заручись его поддержкой.
— Граф женат, Аэлита.
Мне казалось, что я забиваю последний гвоздь в гроб, где будет отныне покоиться любовь Аэлиты.
— Так Рауль разведется со своей женой! — воскликнула она нетерпеливо, совсем по-детски, хоть и старалась изображать из себя взрослую. — Если его поддержит Людовик, отчего бы ему и не обрести свободу? А церковь даст свое согласие.
— Ты в этом так уверена, Эли?
— Уверена. Рауль вернулся в Париж вместе со мной. Я люблю его. — Она вея просто светилась от счастья. — Или ты хочешь лишить меня права на любовь только потому, что тебе самой ее, считай, не досталось?
О таких вещах я до тех пор ни с кем не говорила, даже с сестрой. Разве может гордая женщина признать, что мужчина, за которого она вышла замуж, почти не переносит близости с нею? Но сколь справедливо ее обвинение. Зависть! Удар попал точно в цель, под дых, и мне стало совестно. Как я могла отказать сестре в своем благословении? Пообещала ей разведать, как отнесется к этому Людовик, но вскоре выяснилось, что в том не было нужды. Граф Рауль сам изложил это дело Людовику за кружкой пива. Король урвал время от своего ежедневного общения со Всевышним, явился ко мне и стал жаловаться на легкомыслие моей сестры и ее сомнительные нравственные устои.

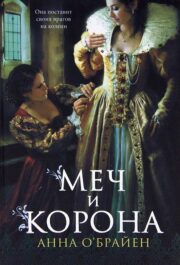
"Меч и корона" отзывы
Отзывы читателей о книге "Меч и корона". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Меч и корона" друзьям в соцсетях.