Ему не хотелось возвращаться в зал; он нашел боковую дверь и вышел в сад. Воздух был чистый и свежий, он жадно потянул его в себя, и это произвело на него впечатление глотка шампанского. Была лунная ночь; звезды блестели, как маленькие белые огоньки, а резкие тени на земле казались точно вырезанными лунным светом из черного дерева.
Погода изменилась. Закат был зеленоватого цвета с серебряным и оранжевым отливом и предвещал мороз; земля уже начинала стыть, и дул резкий ветер. Гревиль не чувствовал холода. Ожидание волновало его. Он переходил от одного решения к другому, но все они сводились к тому, чтобы отомстить, насытить свою злобу. События последнего дня подействовали на него так, что он решил использовать свою власть над Дорой до самого конца.
Он находился в том настроении, когда человек ищет возможности причинять боль, наносить раны, наслаждаться чужим страданием; когда он питает злобу даже к предмету своей любви, лишь за то, что благодаря ему он был унижен. Пан забывал, что Дора не была виновата в том, что он подвергся унижению, у него была одна цель – дать удовлетворение своей сатанинской гордости. Нечто подобное испытывает человек, перенесший какое-нибудь горе и потом всю жизнь питающий злобу против того места, где с ним случилось несчастье.
Пробило час. Гулко, почти торжественно понесся этот одинокий звук в воздухе, и в тот же момент Пан увидел Дору, которая, подобно тени, выскользнула из дома, секунду постояла в нерешительности и затем направилась прямо к нему.
Завтра мог быть Париж, отъезд, ад – но сегодня было его.
Дора была около него, лежала в его объятиях, их губы встретились, и Доре казалось, что вся ее жизнь до того момента, когда она полюбила Пана, была только приготовлением к этому чуду поцелуя, который жег ее, бледнел и опять разгорался; она чувствовала себя вознесенной в небесные сферы, где было место только для их двух душ; ей казалось, что пережить это и вновь вернуться на землю – невозможно.
Она лежала в его руках почти без чувств, с полузакрытыми глазами, с побледневшими губами, с замирающим сердцем, а Пан, любуясь ее лицом, прекрасным, как белый цветок, смеялся и говорил ей:
– Афродита, вернись ко мне… Я хочу тебя… дорогая… говори… смотри на меня…
Он продолжал нашептывать ей нежные слова, все больше и больше разжигая пламя ее любви, а она, восхищенная, трепетала в его объятиях, как лист, сорванный весенней бурей.
Пан прижался к ее лицу горячей щекой.
– Это наш предрассветный час, час, о котором мы будем вспоминать всю жизнь.
Дора вздрогнула; в его словах ей послышалась смутная угроза. Она открыла глаза и быстро спросила:
– Вы намерены меня оставить… уехать?
Пан должен был объясниться. Он чувствовал, что момент был благоприятный.
Он быстро сказал с усмешкой, которую даже теперь не мог подавить:
– Я уже говорил вам, что Рексфорд держал себя дьявольски неприятно.
– Но ведь он не может разлучить нас? – спросила Дора. – И почему, Пан, почему Тони так суров? Он обыкновенно не бывает таким. Позвольте мне поговорить с ним; я знаю, я сумею заставить его понять.
Ирония этого положения доставила Пану миг горького удовольствия, но он тут же вспомнил, что должен привести Доре какую-нибудь основательную причину поведения Тони. Он выбрал ту, которая, по его наблюдению, всего легче задевает струны женского сердца, когда оно любит.
– Тони находит, что я слишком стар.
Он не сомневался в том впечатлении, которое произведут его слова, но такого горячего шумного протеста он не ожидал и был тронут.
– Вы стары, вы? – Дора даже рассмеялась. Ее забавляла такая жалкая критика ее кумира.
Как будто годы могли коснуться этого безупречного лица, этих густых курчавых волос, которые казались такими жесткими при солнечном свете и которые так приятно было ласкать!
– Семнадцать и… сорок, – пробормотал Пан, целуя ее.
Но она оторвалась даже от поцелуя, не в силах слушать такую ересь.
– Почти восемнадцать, мой дорогой. И если сложить наши годы и разделить пополам, получится двадцать девять, самый настоящий возраст, на котором, как говорит Джи, останавливаются все хорошенькие женщины.
Пан принужденно рассмеялся; настроение у него было невеселое, и шутки на эту тему не соответствовали его целям.
Он охладил Дору, резко сказав:
– Рексфорд непреклонен. Уговорить его нельзя; так что наше счастье, наше будущее находится в ваших руках.
Он взял ее руку и стал целовать от кончиков пальцев до самого локтя, наслаждаясь теплотой ее тела.
– Ах, дорогой! – прошептала Дора, тронутая этой лаской.
Она обняла его и прижала его черную кудрявую голову к своей груди, как бы защищая его. Пан чувствовал биение ее сердца, и его собственное сердце забилось сильнее. Все его существо запылало таким огнем, какого он никогда не испытывал.
Он так сильно сжал ее в своих объятиях, что она вскрикнула, но он заглушил этот крик поцелуем.
В это мгновение он был только любовником: все его планы мести, все его намерения перехитрить, унизить Рексфорда были забыты. Он помнил и знал только одно – что Дора лежит в его объятиях, прижавшись к нему. Он вдыхал запах ее волос, ласкал ее белую, нежную, атласную кожу и пил с ее губ волшебный напиток, который пьянил и наполнял его безумной страстью.
Урывками, между поцелуями, он шептал ей о любви:
– Моя… моя Афродита… Я у твоих ног… Обожаю тебя… обожаю тебя… Хоть раз… один только раз, прежде чем уйду. Я у врат рая, Афродита, неужели ты не слышишь моей мольбы… О, если бы ты любила, если бы ты любила меня так, как я люблю тебя, ты не могла бы отказать мне ни в чем…
При этом упреке, которого ни одна любящая женщина не может спокойно слышать, Дора не нашла, что ответить, она могла только вскрикнуть. Она была порабощена страстью и видела перед собой только пылающие глаза Пана, который казался ей каким-то мистическим существом. Под его безумными поцелуями волосы ее упали, и одна прядь случайно попала между их губами.
Пан схватил ее и замотал вокруг своей шеи, как бы прикрепляя себя к Доре неразрывными узами, и одно то, что он мог сделать такую вещь, столь несогласную с кодексом, установленным им даже для любовных дел, служило доказательством, что в этот момент он забыл себя и помнил только одну свою страсть.
Они стояли среди мрака, в немом обожании, как влюбленные всех времен, минувших и будущих. Доре этот миг казался нереальным. Для нее перестали существовать и место и время; она не отдавала себе отчета, что сама она – дрожащее создание, связанное со своим возлюбленным прядью мягких волос. А Пан являлся ей не земным любовником, а воплощением самой любви, мистической, божественной силой, которая дарит счастье и страстное упоение…
Пробили часы, в кустах встрепенулась и защебетала птичка.
– Дора, – прошептал Пан, – я сейчас увезу вас домой. Мы будем одни – вы и я. Подождите здесь.
Он вырвался из ее объятий, промелькнул в полосе света и скрылся в темноте; шаги его постепенно удалялись и потом смолкли.
Как странно было остаться совсем одной под этой темной ажурной крышей из веток, сквозь которую мелькали звезды! Она чувствовала себя отрезанной от всего мира, выше его.
В тихом холодном воздухе долетали до нее издали звуки музыки, которые, казалось ей, повторяли те же слова, которые твердил в ней тайный голос: «Мой, мой прекрасный, мой дорогой…»
Из темноты показался автомобиль; лишь только он остановился, Пан посадил ее, закутал в меха, крепко прижал к себе одной рукой, а другой стал править машиной.
Она вся затрепетала при этом новом прикосновении. Она сидела, прильнув плечом к Пану, рука которого прижимала ее еще крепче. Они неслись навстречу ночи, которая, казалось, раскрыла им свои объятия и звала их к себе.
Пан на минуту остановил машину и наклонился над Дорой:
– Я не могу…
Он стал пить поцелуи с ее юных губ, как пьет путник в пустыне после долгого перехода.
– Ах, держать тебя всю в своих объятиях – без этого! – Он дотронулся до ее меха.
«О, лежать в его объятиях, так близко, близко…»
Книга вторая
Глава 1
Выйдя на террасу, Рекс закурил папиросу и стал прислушиваться. Кто-то пускал в ход автомобиль. Он напряг слух. Несомненно, это была его машина, и, столь же несомненно, она теперь уже быстро мчалась куда-то. Он вышел, собственно, чтобы поискать Дору и Пана, но теперь он бросился к гаражу, куда были поставлены все автомобили. Около решетки стоял их слуга, привезший Рексфорда, Пемброка и Гревиля.
– Это вы пускали в ход автомобиль? – спросил его Рекс.
– Нет, сэр, мистер Гревиль взял его и посадил мисс Дору.
– Куда они поехали, – спокойно спросил Рекс, – по какой дороге?
– В Гарстпойнт; я думаю, они поехали домой.
– Понимаю, – сказал Рекс, – хорошо.
Он медленными шагами двинулся в сторону, но лишь только отошел настолько, чтобы его нельзя было видеть, сразу пустился бежать; Рекс много упражнялся и бегал хорошо, и теперь он понесся стрелой.
На бегу он соображал: «Через буковый лес, потом тропой через ручей, потом через длинный луг – он ужасно длинный! – потом спуститься с холма к дому, потом…»
Он хорошо понимал, зачем он бежит, но только его предположения были неверны; Пемброк рассказал ему об ультиматуме, поставленном его отцом Гревилю, и он был уверен, что Пан и Дора решили этой ночью покинуть Гарстпойнт.
У Рекса в пятнадцать лет сложились уже вполне определенные взгляды и суждения. Это объяснялось, вероятно, тем, что знакомые его отца, Пемброк и другие охотники, часто разговаривали при нем, обсуждая различные жизненные вопросы или поведение общих знакомых, причем в выборе своих выражений и в изложении своих взглядов они нисколько не стеснялись присутствием мальчика. Постепенно и он научился рассуждать как взрослый мужчина.
В данном случае он желал только одного, и по этому вопросу решение его было вполне определенно: Пан не должен обидеть Дору, если только он успеет помочь ей.
Он бежал, задыхаясь, по замерзшему вереску и чисто по-детски думал: «Ведь он уже старик».
Ему было страшно жарко; трудно было бежать в бальных туфлях, которые не давали опоры его больной ноге, но он не думал отдыхать.
«Я бегу, точно в кинематографе, – засмеялся он про себя. – Джи будет страшно довольна, когда я расскажу ей».
Добравшись до парка, он пошел в обход, так как дорога там была удобнее.
Перед дверью стоял автомобиль.
– Какая наглость! – пробормотал он.
Он вошел в дом боковой дверью; нигде не было ни души; он вспомнил, что прислуга отпущена на вечер в деревню.
Он заглянул в музыкальную комнату; там тускло горел огонь в камине, но тоже никого не было.
С минуту он постоял в колебании у лестницы; во втором этаже у них с Дорой была общая гостиная, а этажом выше у каждого была своя комната.
Он стал подниматься, прихрамывая, по лестнице и свистнул: это был с давних времен их условный сигнал с Дорой.
Он вздохнул – полное молчание. Внизу в большом зале с легким треском упал кусок угля. И вновь тишина.
Вдруг он услыхал голос Доры, которая вслед за тем вышла из их гостиной; на ней была еще меховая накидка.
– О Рекс!
– Дора, – засмеялся он, – давно ли вы приехали?
– Ах, только несколько минут тому назад.
– Ты устала? Я бы отвез тебя. Я видел внизу, – в его голосе прозвучала нотка недовольства, – я видел, что машина дома. Тебя привез Пан?
– Да, – ответила Дора, продолжая стоять в дверях. Рекс подошел к ней ближе и тут заметил, что она страшно бледна.
– Ты плохо выглядишь, – сказал он, – выпьем чего-нибудь. В нашей гостиной остался почти весь коньяк, который несколько месяцев назад прислал нам отец. Выпей немного.
Он подошел к двери, и Дора посторонилась, чтобы пропустить его. Пан, сидевший на стуле возле огня, поднял свою черную голову и, позевывая, сказал:
– Я бы тоже выпил, Рекс.
Рекс, не отвечая ему, подошел к шкафику и стал отпирать своим ключом.
Пан, нервы которого буквально дрожали от сдерживаемого негодования и ненависти к этому помешавшему ему мальчишке, счел поведение Рекса обидным для себя.
– Ты слышал, что я сказал? – чуть не крикнул он.
Рекс выпрямился.
– Отлично, – ответил он с легкой иронией.
У Пана на лбу налились жилы, и в виске колотился пульс. Все его труды пропали даром, он не достиг ровно ничего, случай был упущен, и навсегда, благодаря этому выследившему их шпиону, которого, конечно, натравил на него Рексфорд.
Он медленно встал и, пройдя через комнату, подошел к Рексу, спокойный вид которого приводил его в бешенство. Его злило такое полное самообладание в молодом человеке. Как молния, ударившая в скалу, разрушает ее, так безумная ярость, страсть, неудача и унижение, которые пришлось ему вынести, окончательно затуманили его разум. Глаза его застилал туман, лицо было обезображено гневом.

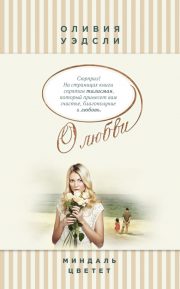
"Миндаль цветет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Миндаль цветет". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Миндаль цветет" друзьям в соцсетях.