– Твои манеры мне не нравятся, – с трудом проговорил он.
Рекс, не глядя на него, небрежно сказал:
– Очень жаль. – А потом вежливо добавил: – Стакан вина?
Пан кивнул головой в знак согласия. Он сделал усилие, чтобы овладеть собой, и вдруг почувствовал себя страшно ослабевшим.
Рекс поставил на стол сифон и стал наливать воду и херес. Пан подошел ближе. Рекс стал наливать ему, но в это время рука его соскользнула с рычажка сифона, и струя содовой воды облила рукав Пана.
Рекс рассмеялся, как сделал бы на его месте всякий другой мальчик, нисколько не желая обидеть Пана. Он тотчас сдержался, вынул из кармана носовой платок и, протягивая его Пану, сказал:
– Досадно, что эта штука вырвалась у меня из рук. – Он на секунду остановился так с протянутой рукой, не имея понятия о том, что Пан собирается сделать. Он не сообразил этого даже в тот миг, когда Пан поднял руку, и вдруг кулак Пана как молотом ударил его по кисти.
– Будь проклят, выродок, шпион! – прошипел Пан.
При этих словах лицо Рекса медленно покрылось бледностью, платок выпал из его руки.
– Будь проклят ты! – сквозь зубы прошептал он, уставившись пылающим взором на бледное лицо Пана.
Послышались шаги Доры.
С трудом выговаривая слова, чуть не шепотом, Рекс пробормотал:
– Я не могу… к несчастью, вы мой гость до завтрашнего дня, когда, слава богу, вы уедете. Гревиль, я ненавижу вас. Слышите? Настанет день, когда вы заплатите мне за это.
Вошла Дора, и он молча подал ей стакан. В эту минуту послышался шум: остальные также возвратились, и Рекс пошел их встретить.
– Гревиль, Дора и я в гостиной, – сказал он немного натянутым голосом. – Там чудесно у камина.
Отец спросил его:
– Вы все трое вернулись рано?
– Да, Гревиль правил моей машиной.
На лице Тони выразилось облегчение; у него было предчувствие, что Пан обманет его.
– Мы сейчас поднимаемся, – сказал он.
– Я, может быть, тоже приду, – сказал Рекс, – пожелать спокойной ночи Гревилю, Доре и остальным.
Он никогда больше не называл Пана иначе как Гревиль. Он прошел в ванную комнату обмыть руку; запястье его опухло и потемнело.
Краска медленно прилила ему к лицу и оставалась двумя яркими точками на обеих его щеках.
Глава 2
– Почему Пан уехал? – спросила Дора.
– Он был вызван. Телеграмма из Парижа. Дело, – отрывисто сказал Тони.
– Но почему же он не простился? – настаивала Дора.
– Чепуха. Я думаю, его отъезды и приезды не какое-нибудь государственное дело! Правда?
– Конечно, нет, – сказала Дора; в ее тоне зазвучала жалобная нотка.
– Поди смени платье, и поедем со мной верхом, – предложил Тони. – Я подожду тебя.
Дора послушно вышла; теперь, раз Пана не было, ей было безразлично, ехать ли верхом, сидеть ли одной или делать что бы то ни было.
Она послушно переоделась для верховой езды; отъезд Пана ошеломил ее. Ей не хотелось говорить, не хотелось ни за что браться.
Погода подходила к ее настроению; небо стального цвета было похоже на опрокинутое блюдо, земля была скована морозом; казалось, в такой день не могло быть ни радости, ни надежды.
Лошади были бойкие; с ними нелегко было справиться.
– Где Рекс? – спросил Тони.
– Он ушиб где-то руку.
– Всегда с ним что-нибудь случается, – пробормотал Тони.
Дора, которая всегда была такой горячей защитницей Рекса, на этот раз промолчала.
Время от времени Тони взглядывал на нее, и тупая боль щемила его сердце, а вместе с тем нарастала в нем ненависть к Пану. «Она еще так молода, – думал он, – она забудет. Теперь, конечно, еще слишком рано ожидать, чтобы она перестала о нем думать».
А Доре казалось, что лошади выбивают своими копытами: «Пан уехал, Пан уехал».
Только вчера она гуляла вместе с ним, солнце сияло, и все было так чудно, и, казалось, этому конца не будет. С этой мыслью в ней вспыхнула надежда. Он напишет, он вернется…
Она не позволяла сомнениям закрадываться в ее душу. Она была уверена, что только что-нибудь очень важное могло заставить его уехать. Воспоминания о нем волновали ее; она побледнела, потом покраснела, как белая роза на заре.
Она не могла удержаться, чтобы не спросить:
– Как вы думаете, скоро ли Пан вернется?
Она заметила, как лицо Тони вздрогнуло. Он в упор посмотрел на нее и жестким тоном сказал:
– Все, что я могу тебе сказать, это – что он уехал.
– Да, это я тоже знаю, – попробовала пошутить Дора.
В который уже раз Тони спрашивал себя, не лучше ли сказать ей всю правду. Он говорил об этом с Пемброком, но тот решительно отсоветовал ему это делать.
– От этого никогда не бывает ничего хорошего, – тоном мудреца сказал он, – а только дети начинают чувствовать, что с ними поступают несправедливо. Девушки находят более романтичным, когда у их возлюбленного нет ни гроша. Неизвестно почему. Как бы то ни было, они перестают это находить, когда выходят замуж. Самый скверный метод – это ставить препятствия. Попробуй поставить между девушкой и человеком, которого она любит, несколько хороших барьеров, и можешь быть уверен, что она перескочит через них прежде, чем ты успеешь оглянуться. Нет, друг мой, сиди смирно и молчи. В данном случае, как и всегда, молчание золото. Разоблачением истины ты только возведешь его в герои, и она начнет боготворить его. Дай ей успокоиться, и пусть она не думает, что с ним или с ней поступили дурно, иначе это будет ад. Я знаю женщин.
Разговор этот происходил утром в курительной комнате, и тогда Тони согласился со своим приятелем, но теперь, смотря на жалкое, утомленное лицо Доры, он начинал сомневаться в справедливости слов Пемброка.
Но что он мог сказать? Если он только обмолвится чем-нибудь, будет очевидно, что он знает все. А кроме того, своим молчанием он избавлял Дору от необходимости быть откровенной.
Они заехали позавтракать к Джи.
– Вот это очаровательно, – приветствовала она их. – А где Рекс?
Ей рассказали про его руку…
Джи не расспрашивала. Она никогда не делала никаких замечаний по поводу болезней Рекса, но в душе желала, чтобы все эти болезни приключались с ней вместо него. Они завтракали за маленьким круглым столом, украшенным первыми цветущими гиацинтами.
– Дивный запах, – сказала Джи, – но только для цветка, для духов он был бы слишком силен. Да, по поводу духов, Дора, я хочу сказать тебе, что всякая женщина, если она хочет быть обаятельной, должна знать и применять три вещи: духи, страсть и искусство распознавать людей. Если женщина умеет приспособлять эти три вещи к своей жизни и к своим душевным переживаниям, она пойдет далеко.
– Многие проходят немалый путь без последнего качества, – сказал Тони.
– Да, уходят слишком далеко, и по дурной дороге, – возразила Джи.
Дора чувствовала себя очень утомленной; весь разговор Джи с Тони казался ей каким-то ненужным, бесцельным. Она с нетерпением ждала, когда можно будет вернуться домой.
Дома, по крайней мере, она останется одна и может отдаться воспоминаниям.
Для нее наступили дни воспоминаний и бессонные ночи, когда лежишь и вновь переживаешь все, что было, воображаешь, что целуешь и тебя целуют.
Первые дни были для нее мучением: она ждала письма, но оно не приходило. Случайно как-то Тони упомянул, что Пан уехал в Индию. Конечно, оттуда письма не могут дойти скоро.
Прошел месяц, два, а их все не было; тем не менее Дора не теряла веры. Она продолжала ждать и гнала от себя все сомнения. Наконец пришла весна, а с ней вновь пробудилось прежнее томление, ожили прежние желания.
«О Пан, Пан, быть опять подле тебя, в твоих объятиях, поцеловать тебя еще раз…»
Весенние ночи с их теплыми ветрами и чудным ароматом цветущих трав и цветов были для нее полны тоски.
Она стала худеть; под ее чудными зелеными глазами появились круги, точно отпечатки влажных фиалок.
И все-таки она продолжала ждать. Она была слишком молода, чтобы перестать верить. Настоящая любовь должна быть бесконечна, а если эти поцелуи и нежные слова не были от любви, тогда все в мире ложь.
Она спала плохо, порой совсем не спала; полулежала на подоконнике и смотрела на звезды, вспоминая прошлое и ожидая утра, которое могло принести с собой письмо.
Однажды утром вошел к ней Рекс, весь сияя, и сообщил, что в аллее, которую посадила еще Франческа, за розовым садом, расцвели во всем своем великолепии миндальные деревья.
– Это изумительно красиво! – сказал он. – Пойдем, Дора, ты должна полюбоваться.
Утро было яркое, каждый лепесток блистал на солнце, как изумруд, небо было совершенно синее, и только легкие облачка бежали по нему, как будто играя.
На фоне этой синевы и белизны ярко выделялись розовые миндальные цветы. Они были так пышны и прекрасны, что нельзя было от них оторвать глаз.
– Встань здесь, – сказал Рекс Доре и поставил ее посредине аллеи, между двумя рядами деревьев. – Теперь смотри вдоль аллеи!
Это было так красиво, что казалось, будто смотришь в сердце розы, но при виде этой красоты Дора почувствовала себя еще более несчастной. Смеющаяся природа была ей невыносима, как удар, нанесенный по открытой ране.
Она отвела глаза от миндальных деревьев и грустно взглянула на Рекса…
Он встретил серьезно ее взгляд и не стал ее ни о чем спрашивать, а просто, помолчав, подошел к ней, взял ее под руку и сказал:
– Этот хаос красок немного слепит глаза.
Он довел ее до дома, и у порога они расстались.
Ночью пронеслась буря; Дора слушала, как она бушевала, а потом, когда все стихло, она вышла освежиться.
Она очутилась, как ей показалось, в совершенно незнакомой части сада, перед аллеей обнаженных качающихся деревьев.
Но ведь позади был сад из роз, а это разве были не миндальные деревья в своем роскошном цвету? Она подняла голову: на голых ветках висело несколько лепестков; один случайно оторвался и упал вниз, как бледная слеза.
Глава 3
– Перемена была бы полезна, – сказал Тони. – Как вы думаете, Джи?
– Я говорила это уже три года тому назад, – ответила Джи, – но тогда мне сказали, что Дора не соглашается. И, конечно, она не могла быть согласна, так как это было бы для ее пользы, а она еще слишком молода, чтобы считаться с пользой; это я тоже говорила.
– Так надо это сделать теперь, – мрачно сказал Тони. – Я больше не могу оставаться в этой обстановке; дом стал похож на морг; Пемброк уехал, Рекса нет, и мы остались вдвоем с Дорой. А она или охотится, или упражняется в пении, когда же она не занята ни тем, ни другим, она молчит.
Он помолчал минутку, а потом выпалил:
– Проклятый Пан!
– Не так громко; просто «проклятый» будет столь же действительно.
Тони повернулся к Джи и пристально посмотрел ей в глаза.
– Как вы думаете, интересуется ли она им еще?
Джи вздохнула и стала нетерпеливо похлопывать по палке для ходьбы своими тонкими, украшенными кольцами пальцами.
– Трудно судить молодость, – сказала она наконец. – Мне кажется, она интересуется им, но не до такой степени, как раньше. Даже в восемнадцать лет нельзя вечно пылать, как в лихорадке; но, с другой стороны, именно в этом возрасте страсть не может угаснуть. Только теперь предмет ее страсти уже не Пан; вместо него осталась лишь память о нем, а за ней горит огонь, который просвечивает так ярко, что заслоняет образ его самого. Молодость никогда не помнит, но вместе с тем никогда и не забывает. Обратите внимание – тут есть разница. Юность легко выбрасывает из своей памяти то, до чего ей нет дела, и с дьявольским упрямством цепляется за главный факт. Она безгранично верит в слова «никогда» и «вечно», как будто они соответствуют действительности, а не являются просто сентиментальным парадоксом. Да, заставь ее переменить место; она так прекрасна, в ней столько жизни – ей это принесет пользу. Мы были глупы, что верили в целебную силу времени. Время редко исцеляет настоящих влюбленных, наоборот, они начинают сами любоваться своей верностью. Надо выбить Дору из колеи, окружить ее новыми людьми. Пусть это будут не Кольфаксы или Окгэмптомы и все те, кто постоянно был около нее, а другие, которых она совсем не знает. Музыка и охота лишь в виде отдыха, но они не могут быть целью жизни.
– Гермиона возьмет ее к себе, – угрюмо сказал Тони, подразумевая свою сестру.
Он сказал это таким голосом, как будто возвещал о каком-нибудь бедствии.
– Это было бы хорошо, – согласилась Джи. Водворилось молчание, и в тишине доносился из музыкальной комнаты голос Доры; она пела романс Гана.
Тони вздохнул.
– Вечно какую-то песню без слов, – сказал он сердито. – Почему она не может спеть хорошую балладу, что-нибудь, что можно понять, а это бог знает что…
– Да, но это великолепная вещь, – тихо сказала Джи. – Слушай!
Тони стал слушать с выражением человека, купившего за большие деньги ценную вещь, в которой он ничего не понимает, и жалеющего о затраченных деньгах, но вместе с тем получающего большое удовольствие от похвал, расточаемых другими его покупке; это как будто вознаграждает его за произведенную затрату.

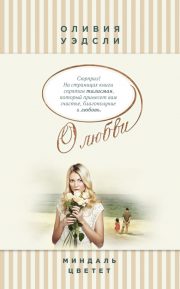
"Миндаль цветет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Миндаль цветет". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Миндаль цветет" друзьям в соцсетях.