Если Маргарет относится к Фрейе чуть ли не как к части своего физического тела, Логан воспринимает ее как продолжение своего живого ума. Девочка постоянно бьется над головоломками отца, над перечнем того, что нужно запомнить, над ответами, которые необходимо выяснить. Логан к тому же легче поддается переменам настроения, чем его жена, и менее предсказуем, особенно по отношению к хозяевам дома. Йону трудно понять, испытывает ли этот человек к нему какую-то личную неприязнь или же он культивирует свой саркастический тон повсюду и это своего рода реакция на обстановку, в которой они существуют. Логан имеет склонность подвести их с Йоном беседу к грани оскорбления, а потом в последний момент отступить, пустив в ход какую-нибудь остроумную игру слов, что приводит в восторг дам.
Софию больше всех забавляют шутки Логана, которые в основном разоблачают кумовство, жадность и корыстолюбие клана Чаушеску. Ей также доставляют удовольствие приводимые Логаном абсурдные примеры того, как его коллеги на факультете умудряются по абсолютно любой академической теме сослаться на президента Чаушеску, гарантируя тем самым публикацию своих работ. Йона начало раздражать, что его жена, кажется, воспринимает лишь комическую абсурдность этой культуры и не замечает лежащую под этим глубинную унизительную политику. Он также ощущает, что, когда они смеются над ним — а Йон часто выступает в роли дурачка, — в смехе Софии слышатся теперь горькие нотки, будто она в нем разочаровалась.
Йон знает, что несправедливо обвинять Софию в бездушии и поверхностности. В конце концов, ведь он-то каждый день получает детальную информацию о лишениях и ограничениях румынского народа; это знание становится его ношей. Только сверхчеловеческая интуиция позволила бы Софии разглядеть извилистый лабиринт, таящийся под бухарестскими проспектами. Возможно, Йон единственный, кто мог бы ее просветить, рассказать правду, но теперь есть множество причин, больше, чем когда-либо, которые делают это невозможным.
Пока взрослые разговаривают, Фрейя бредет в кабинет, или, что случается чаще, Йон поднимается и сам отводит девочку наверх, в это особенное место, где разрешает ей вскарабкаться на кресло, которое скрипит и кренится на своих металлических колесиках. Стол с множеством ящиков и полочек, по-видимому, чем-то напоминает ей матросский сундучок, поскольку она спрашивает, не капитан ли он корабля, и смеется, когда Йон говорит «нет».
Фрейя принимается за работу, делая замечательные вещи из всего, что ей удается обнаружить в выдвигающихся ящиках из полированного дерева. Стоя на коленях на сиденье кресла, она скручивает длинные полоски бумаги и закрепляет их с помощью клейкой ленты из тяжелого серого держателя. Сооружает протяженные цепи из скрепок для бумаг, тыкает по клавишам черной печатной машинки, отгибает копирку, чтобы посмотреть на копию цифр, напечатанных сверху, и складывает жизненно важные сообщения в конверты, заверенные печатью Королевского посольства Дании.
Эти действия имеют важную цель, которую Фрейя жаждет ему объяснить. В какой-то момент она даже поднимает на него взгляд и серьезным тоном сообщает: «Мой папа шпион. Он делает много всякого секретного». Йон собирается вернуться вниз к остальным, но Фрейя выглядит такой счастливой, что он остается. Возможно, девочку успокаивает понимание того, что ему от нее совершенно ничего не нужно, в отличие от других значимых взрослых в ее жизни. Послушав ее болтовню еще какое-то время, Йон начинает терять нить, его внимание переключается на любимые картины, которые теперь, когда он не сидит на своем обычном месте за столом, предстают перед ним под другим углом. Он созерцает тонкую спину натурщицы в черном платье и вспоминает, как однажды встретил Северину Риис в реальной жизни.
В тысяча девятьсот сорок четвертом году дедушка Йона был уже не так бодр, как тогда, когда они вместе ходили смотреть на спрятанные картины. Поэтому он послал одиннадцатилетнего Йона через весь город отнести маленький гостинец для фру Риис, «…которую я не видел много-много лет, но сейчас самое время ей посмотреть на тебя». Подарком был кусочек французского мыла, благоухающий лавандой и упакованный в нежно шелестящую оберточную бумагу. Кто знает, где дед мог его достать, ведь в то военное время все было дефицитом. Мать Йона часто раздраженно говорила, что их пайковые мыльные хлопья, наверное, смешаны с глиной, поэтому так плохо пенятся. Вообще-то первым побуждением мальчика было отнести мыло своей работящей матери, а не незнакомке на другом конце города. Но он был заинтригован возможностью увидеть даму с картин.
Она не пригласила его войти, и он просто стоял на пороге. По случайному совпадению спустя много лет Министерство иностранных дел Дании переместило свое протокольное бюро на улицу, где когда-то жил и писал Виктор Риис, в старейшей части Копенгагена. Много раз со времен тогдашнего поручения Йону доводилось возвращаться на эту улицу, где высокие откатные деревянные ворота по-прежнему заслоняют старый внутренний двор от прохожих. Он помнит изборожденное морщинами лицо и черный кружевной чепец ясноглазой дамы в двери, которая, кажется, была рада узнать, что он будущий владелец картин («…ведь у меня нет своих деток», — так вроде бы она сказала?). Йон не может доверять своей памяти на этот счет, ведь, когда она это говорила, ее голос не звучал грустно, как можно было бы ожидать при таком сообщении. Наоборот, она улыбалась ему — в этом он уверен, — и вполне умиротворенно.
КОПЕНГАГЕН, 1905–1906 ГОДЫ
Понедельник, 18 декабря.
Мы переживаем разгар зимы, которая уже к середине дня погружает Данию в сумерки, а вскоре после этого — во тьму. Поэтому прибытие Свена с длительным визитом словно принесло яркий — чуть ли не чересчур яркий! — солнечный свет в наши апартаменты. Свен приехал вскоре после визита советника Алстеда; он гостит у нас уже три недели. За все это время я не написала здесь ни строчки, а вместо этого открыто разговаривала обо всем со Свеном. Хоть из молчаливой страницы собеседник намного хуже, чем из моего брата, я решила не отказываться от дневника полностью. Мне действительно помогает, когда я признаюсь этим страницам в том, что, возможно, живу так, как этого ожидают от меня другие, и пытаюсь разобраться с их помощью в запутанных вопросах.
Начну с того, что, к нашему величайшему удивлению и явному неудовольствию Виктора, Свен приехал не один. Он привез с собой ту цыганку, хотя, как мы вскоре узнали, на самом деле она американка, мисс ван Дорен, которая однажды ночью сбежала от своей семьи, остановившейся в одном из отелей Парижа. Да, ни с того ни с сего она решила уйти от богатых родителей, которые повезли ее, вместе с двумя старшими сестрами и младшим братом, в большое путешествие по Европе. Сказала Свену, что больше не может выносить тиранию своего отца. Мне кажется, ей просто хотелось пожить богемной жизнью среди художников, занимаясь псевдогаданием и вплетая ленты с монетками в свои длинные волосы. Тогда она называла себя цыганским именем Грасиела, но сейчас представляется более скромно — Грейс. Я не знаю, настоящее это ее имя или нет.
Пока нежданная гостья стояла в прихожей, вглядываясь в комнаты, я обратила внимание на ее необычный рост и юность. Она несуразная, но ее нельзя назвать некрасивой, и ей, наверное, не больше шестнадцати. Ее наряд был довольно смешон и состоял из остатков от цыганских будней вперемешку с одеждой из чемодана, с которым она путешествовала по Европе. Все это дополняли какие-то самодельные вещи, сшитые без особого терпения или умения. Еще через плечо у нее висела черная коробочка на ремне, и это была, наверное, самая странная дамская сумочка из всех, которые я когда-либо видела. Мне оставалось лишь предположить, что в Америке это сейчас писк моды.
В то время как Грейс топталась на пороге, все еще не получив приглашения войти, Свен деловито направился прямо к мольберту, за которым работал Виктор. Несколько минут они разговаривали вполголоса, при этом Виктор сидел, а Свен склонился над ним. Пару раз Виктор, зловеще нахмурив брови, мрачно покачал головой, но в конце концов посмотрел Грейс прямо в глаза и неохотно пробормотал стандартное приветствие на датском, явно не заботясь о том, может она его понять или нет. Как я узнала той ночью от мужа, во время этого маленького тайного совещания Свен горячо поклялся, что с Грейс его связывают исключительно платонические отношения и он считает ее милым ребенком из приличной семьи, чье присутствие ни в коем случае не может опорочить наш дом; что нет ничего плохого в том, чтобы радушно принять ее в качестве нашей гостьи.
Хорошо зная о богемных наклонностях Свена и о том образе жизни, который он вел в Париже, мы с Виктором посчитали это утверждение вряд ли заслуживающим доверия. Но с другой стороны, Свен такой непостоянный человек, он так часто и ревностно принимает новую философию, что, возможно, подобное заявление, исходящее именно от него, может быть правдой. А узнав Грейс за время их визита, мы с Виктором были вынуждены признать, что ее естественная и открытая манера поведения, включая нескрываемую любовь к Свену, согласуется с отзывом моего брата о ней как о невинном ребенке. Тем не менее, само собой разумеется, мать Виктора не осчастливила нас ни единым визитом, пока наши гости оставались здесь.
Общаться было нелегко. Словно в противовес своему голосу, который несколько ниже и громче нормы, Грейс очень плохо говорит по-французски и практически ни слова по-датски. Как мы заметили, она неразлучна с черной квадратной коробкой, которую называет «мой кодак». Она машет руками, объясняя, что взяла из дома в Новой Англии практическое руководство по ландшафтной фотографии для тех, кто хочет подражать стилю картин из академии. Однако сейчас ее больше увлекает портретная съемка. Все это не располагает к девушке Виктора, не большого любителя фотосъемки. Не раз завистливый критик высмеивал его творчество за «излишнюю фотографичность» из-за черных и серых оттенков, а также точно переданных деталей. Виктору не польстила даже похвала, напечатанная в этом году в современном журнале. Писатель Адам Моллер — Свен его знает, ну конечно, он знает всех — настоятельно убеждает современных фотографов в том, что им есть чему поучиться у «искусства Рииса», как он это назвал: устранению лишних предметов с заднего плана и, прежде всего, пониманию, насколько важна геометрия света.
Мы узнали, что в рыбацком поселке, где они со Свеном живут, ей стоит больших усилий доставать пленку, а также устраивать темную комнату в сарае, но Грейс, несомненно, не единственный фотограф в поселении художников. Разумеется, вся эта информация доносилась до нас с помощью жестов и фраз, произносимых на помеси разных языков, с предварительным инструктажем и последующими поправками Свена. Мне кажется, за его наносным весельем скрывается больше уважения к этому своеобразному явлению женственности, чем он когда-нибудь проявлял по отношению к какой-либо девушке, грубой ли, утонченной ли, будь то в Париже или в Копенгагене. Естественно, неугомонная Грейс возжелала сделать наши портреты, и, естественно, Виктор наотрез отказался, продемонстрировав такое отвращение, которое не оставило ей возможности для спора даже на языке жестов.
Вторник, 19 декабря.
В эти дни Свен много говорит о какой-то разновидности витализма,[30] с которой он познакомился в кругу новых друзей. Человек должен вступать в контакт с энергией земли, заново открывая свою исходную связь с природой. На смену богемному разгулу, который последовал за смертью дяди и получением наследства, позволившего ему вести беспечную жизнь в Париже, пришло теперь поклонение силам природы. Мы слушаем о солнечных ваннах, ношении тог, плавании нагишом. Все это, как утверждает Свен, должно улучшить плодовитость, так сильно подавленную нашей городской средой. В продолжение его речей Грейс широко улыбается; мы с Виктором не знаем, насколько хорошо она понимает услышанное.
Четверг, 21 декабря.
Милый Свен… У него точно такое же лицо, рыжеватые брови и высокие скулы, какими я запомнила их с детства. И все же как он не похож на школьника, который сидел в соседней комнате при свете лампы, склонившись над тетрадью и делая уроки, пока его младшая сестра принимала водные процедуры под наблюдением фру Эльны Моерх. Мне вспомнился поток воды из медного котла, вскипяченной давно и уже остывшей, так что ванна была неприятно прохладной. Конечно, я подскочила, как только фру Моерх ослабила свою мыльную хватку. Я припоминаю легкость, с которой бежала, голая и мокрая, по направлению к комнате с ярким кругом искусственного света, где прыгнула в кресло, обитое каким-то грубым, но теплым и сухим материалом, и принялась раскачиваться на нем взад и вперед, в полной мере наслаждаясь свободой как от ванны, так и от одежды.

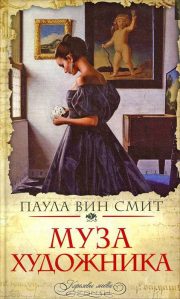
"Муза художника" отзывы
Отзывы читателей о книге "Муза художника". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Муза художника" друзьям в соцсетях.