— Ты тоже извлекла кучу выгоды. Многое в своей жизни я делал ради тебя. Люди постоянно мне что-то предлагают. Так было всегда. И этот дар достался тебе от меня. Разве ты не занимаешься тем же, когда приезжаешь сюда и живешь за счет Софии? И не нужно конфузиться! Я просто пытаюсь кое о чем напомнить.
Фрейя не конфузилась. Она была возмущена. Как он не видит, что все совсем наоборот и ее приезд сюда — это помощь Софии? И эта шутка о том, чтобы соблазнить Питера и выведать его тайны, была в духе Логана, совсем как обвинения в инсинуациях и интригах, которыми ее родители бросались друг в друга. Фрейя давно решила: она никогда не будет играть в подобные игры.
— Слушай, — продолжил он уже мягче. — Возможно, мы растили тебя в несколько необычных условиях, так как были ввязаны во всякие запутанные делишки. Это не слишком на тебя повлияло, но кое-что все-таки лезет сейчас наружу. Просто я хочу донести до тебя: нет ничего плохого в том, чтобы использовать свой природный шарм. Что касается Софии, разумеется, ты всегда должна быть на ее стороне, но этот парень… Ты помни, у тебя внешность матери, ты одарена многим, что может работать на тебя. Когда он размякнет и выболтает все, просто постарайся извлечь из этого какую-нибудь пользу для себя. А по поводу отъезда Алстедов из Бухареста… больше ни слова об этой истории здесь. В следующий раз пересечемся в каком-нибудь безопасном месте, и я все тебе расскажу.
— Не проще ли снова встретиться здесь? Они же не будут…
— Я пришлю тебе карту.
КОПЕНГАГЕН, 1905 ГОД
Вторник, 7 ноября.
Сегодняшний день обещает быть заполненным отрезвляющей рутиной. Для меня это прежде всего домашнее хозяйство: составление меню, кое-какая мелкая уборка, поход на рынок за продуктами; затем второй завтрак — нужно подать тарелку хлеба с маслом и сыром. Мое любимое время наступает после полуденного перекуса, хоть и не каждый день, потому что если нужно принимать гостей, это иногда занимает много времени. Потом я готовлю обед, за которым следует период тихого чтения и шитья перед сном. Сегодня у нас, к счастью, не было посетителей.
После Парижа я вернулась к размеренной жизни Копенгагена скорее, чем мне бы того хотелось, хотя все естественным образом обернулось к лучшему, ведь я вышла замуж. Меня срочно вызвали назад домой в июле тысяча девятисотого года, когда фру Эльна Моерх уехала к себе в деревню ухаживать за умирающими родителями. После отъезда давнишней экономки дядя Мелькиор решил, что пришло время мне проявить навыки ведения домашнего хозяйства.
Мы со Свеном никогда не знали своих родителей. По рассказам, наша мать, сестра Мелькиора, оставила нас на дядино попечение, прежде чем последовала за нашим отцом в загробный мир; там они посмертно нашли способ благословить свой союз, как не смогли сделать это при жизни. По крайней мере, так я любила представлять себе, когда была маленькой, мысленно споря с домоправительницей нашего дяди. Фру Моерх, сама вдова, получала необъяснимое удовольствие, напоминая нам с братом о том, что мы, незаконнорожденные сироты, обязаны всем в своей жизни щедрости и доброте нашего дяди.
— Живете как в сказке, имеете в своем распоряжении любые жизненные блага, а многим другим повезло гораздо меньше, — нараспев произносила она голосом, который был странно успокаивающим и одновременно мрачным.
Позже, когда я гуляла по улицам Парижа, где смехотворные молодые люди носили плащи с капюшонами, бархатные костюмы и длинные волосы, выставляя напоказ свою богемную неординарность, перед моим мысленным взором всегда представал образ Эльны Моерх. В своих одеждах из черной шерсти, со связкой ключей на талии, являя собой авторитетный источник всех на свете важных знаний и ответов, экономка рассудительно качала головой. Пока мы росли, она не ставила на нас крест. Скорее, пыталась вложить чувство собственного достоинства в подростков, находившихся под ее диктаторской ответственностью. Однако малейшее отклонение от эталона в нашем поведении побуждало фру Моерх напомнить о том, что ребенок, появившийся от союза, который никогда не был по-настоящему освящен в браке, вероятнее всего, не кончит ничем хорошим (если только не будет абсолютно чист в помыслах и деяниях). В результате мы со Свеном научились играть роли благонравных молодых людей, усвоив, что такой показательный спектакль приносит желанное вознаграждение.
Моему брату понадобились многие годы, прежде чем он смог избавиться от этой нелегкой роли добродетельного племянника. Еще долгое время после того, как Свен отправился в Париж, где нужно было готовить уроки на французском языке и требовались рекомендательные письма, он оставался все тем же образцовым учеником и любимцем преподавателей, придерживавшихся весьма традиционных воззрений. Поскольку брат был старше, к тому же мальчик, ему разрешили уехать намного раньше и пробыть в Париже намного дольше, чем мне. Помню, как долго и с какими ухищрениями мне пришлось умасливать дядю Мелькиора и сгибать волю его грозной экономки, убежденной, что я должна развивать свои неудовлетворительные навыки ведения домашнего хозяйства вместо этой поездки в Париж, которую она крайне не одобряла. Но я мечтала о побеге из-под ее контроля, а также об избавлении от жутких обязанностей, падавших на мои плечи всякий раз, когда фру Моерх валил с ног (что с ней случалось часто в те годы) внезапный приступ необъяснимой лихорадки, которая проходила так же внезапно, как и нападала на нее.
Но мои надежды на обретение в Париже свободы не оправдались, поскольку опека старшего брата не оставляла у меня ощущения таковой. Все те семь месяцев (так быстро пролетевших), что я провела в этом городе вместе со своими спутницами, Сусси Гутенберг и Дорте Браннер, с которыми делила жилище, Свен исполнял роль педантичного и покровительственного провожатого, когда бы мы ни попросили его вывести нас в общество. Разумеется, мы не могли пойти куда-либо без сопровождения. Даже в конце, когда я плакала по поводу своего отъезда из Парижа, Свена нисколько не тронуло мое горе. Он надменно рассуждал о моем долге, прямо как фру Моерх.
Простившись с великолепием и эксцентричностью Парижа, я писала брату из болезненно скучного Копенгагена письма о том, как изо всех сил стараюсь научиться управлять домом нашего дяди, как пытаюсь добиться хоть какого-то уважения от кухарки, по-прежнему считающей меня взбалмошной девчонкой и неохотно выполняющей мои распоряжения, как принимаю гостей дяди Мелькиора, этих древних и почтенных ученых, которые всегда сидят за столом с таким видом, будто никогда уже больше не поднимутся и не отправятся домой. Но Свен ни разу не откликнулся на мои письма с сочувствием. Думаю, он воспринимал их как обычные женские жалобы.
Вероятно, каждая невзгода действительно таит в себе невидимое до поры благо. В те месяцы я прониклась осознанием обязанностей и обрела навыки ведения домашнего хозяйства, которые необходимы девушке, если она хочет стать для кого-то хорошей женой, особенно в доме без слуг. Я выполняю всю урочную работу в кратчайшие сроки, и у меня остается достаточно времени для того, чтобы позировать Виктору и заниматься тем, что имеет для меня первостепенное значение.
Пятница, 10 ноября.
Если желание поселилось в твоем сердце, очень трудно от него отказаться. Нетерпеливые и импульсивные черты своего характера я смиренно воспринимаю как наследство, доставшееся мне от матери, в которой эти качества были слишком сильны; в конечном итоге они привели ее к грехопадению и лишению Божьей благодати. Обретет ли когда-нибудь покой душа моей мамы? То, что от пропащей матери все эти черты перешли ко мне, неоднократно подчеркивалось и дядей, и его экономкой, растившей нас. Разными способами оба выражали веру в то, что при надлежащем образе жизни я смогу избежать подобной судьбы. Обнадеженная их уверенностью и воспитанная под их опекой, я продолжаю бороться с этими страстями всякий раз, когда распознаю их в себе. Стремление стать хорошей женой — часть моей работы над собой. Я надеюсь, размышления на этой странице помогут моим стараниям.
Поддерживать мою решимость мне помогают воспоминания о знакомстве, романтических отношениях и свадьбе с мужчиной, который в моем сердце на первом месте. В Париже мы с Виктором знали друг друга только в лицо. Скандинавские художники создали свободное сообщество, члены которого имели обыкновение собираться в конце недели, чтобы совершить вылазку в сельскую местность или устроить вечеринку в чьих-нибудь арендованных комнатах, где мы наслаждались мягким светом бумажных фонариков и дешевым красным вином. Виктор не всегда посещал эти мероприятия, а когда появлялся, сила эмоций вкупе с застенчивостью заставляли его держаться на заднем плане. Там он либо сидел в одиночестве, либо пускался в длительные дискуссии с каким-нибудь терпеливым другом, чей взгляд, привлеченный притягательной силой шумных гуляк, периодически устремлялся за неплотно задернутую занавеску или в широкий дверной проем.
В кругу своих товарищей Виктор имел определенную репутацию, поскольку его работы были слишком не похожи на то, что делали другие. Среди датских студентов в Париже циркулировал приписываемый ему афоризм: «Я пришел сюда учиться рисовать, а не копировать». Кое-кто из датских преподавателей предупреждал своих воспитанников опасаться «заразы» современных французских тенденций в живописи. Но Виктор Риис давно занял такую позицию даже по отношению к своим учителям в Копенгагене, с самых ранних дней рисуя в собственной неповторимой манере. В результате, хотя некоторые преподаватели и многие товарищи по занятиям восхищались техникой и силой работ Виктора, уважаемые профессора объявили его творчество слишком нетрадиционным, заявив, что оно не соответствует их стандартам. В итоге Виктор никогда не получал наград и стипендий, которые по праву причитались человеку его таланта.
В целом он добился большего признания в Париже и среди некоторых лондонских критиков, чем у себя на родине. Даже средства, необходимые для его поездок за границу, шли не из призового фонда Датской академии, а от друзей и родственников, которые собирали деньги, чтобы он мог поехать в Париж. Виктор благодарил их за помощь, но делал это холодно, вне всяких сомнений убеждая себя в том, что исключительно ради искусства, а не лично для себя он может принимать подобную щедрость.
Не припоминаю, чтобы мы обменялись в Париже хоть словом. Я знала Виктора Рииса в лицо и могла различить его в толпе. Он был худощав, всегда безукоризненно одет. Несмотря на несколько заурядную его внешность, язык не повернулся бы назвать Виктора непривлекательным, с его тонкими чертами лица, аккуратной бородкой и вечно взъерошенными волосами. Обычно сдержанный в мимике и жестах, он разительно менялся, когда со страстью выражал свое мнение в дискуссиях об искусстве. Поскольку мы с ним никогда не общались, по возвращении в Копенгаген для меня оказалось большим сюрпризом появление Виктора на пороге дома моего дяди. Правда, после этого первого визита на протяжении осени и зимы он приходил к нам в гости каждую неделю.
Во время этих воскресных визитов мой будущий муж оставался таким же молчаливым, каким был в Париже. Я ощущала, как раздражают дядю Мелькиора односложные ответы молодого человека на его банальные высказывания. Для моего патриотичного дядюшки серебряная медаль, присужденная Виктору на Парижской выставке, мало что значила. Он бы оценил его достижения более высоко, получи Виктор награду в нашем Шарлоттенборге,[14] предмете национальной гордости. Также, будучи видной в академических кругах фигурой, профессором ботаники в университете, персоной важной, по его собственному мнению, разделенному и обществом, к которому он принадлежал, дядя хотел бы, чтобы Виктор выказывал ему больше почтения. Но в то же время своим прагматичным взглядом Мелькиор видел, что его осиротевшая племянница не привлекает большинство известных ему молодых людей подходящего положения, а потому сватовству не препятствовал.
Тем временем Свен прислал из Парижа ответ на мое письмо. В своей новообретенной светской манере он писал, что я должна благодарить судьбу за внимание к моей персоне человека, признанного одним из значительнейших художников современности. Что до моих собственных взглядов на этот счет — я по-прежнему все время думала о своих студенческих днях, а Виктор олицетворял неразрывную связь с тем миром. В отличие от дяди я считала преимуществом тот факт, что творчество Виктора с большей охотой признали за границей. Я представляла себе, как, поженившись, мы будем путешествовать по всему миру и даже, возможно, поселимся в каком-нибудь зарубежном городе, где Виктор сможет снискать благосклонный прием критиков и завоевать репутацию, а также рынок для своего творчества.
В самом начале наших романтических отношений Виктор рассказывал, какой запомнил меня по Парижу, изумляя упоминанием множества деталей, на которые обращал внимание, когда я проходила мимо и не подозревала, что за мной наблюдают. Удивительно, но уже тогда он начал придумывать композиции картин с включением моей фигуры. Не зная, как ответить, я заверила Виктора в том, что тоже знала о его присутствии в сообществе художников, приехавших в Париж из северных стран.

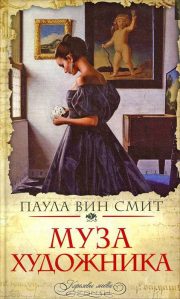
"Муза художника" отзывы
Отзывы читателей о книге "Муза художника". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Муза художника" друзьям в соцсетях.