Едва упав «мертвым» и услышав, что закрывающийся занавес прошуршал по сцене, Шушерин вскочил. Ему не терпелось сказать Моине все, что он думает о ее дурости. А еще лучше — крепко отодрать ее за роскошную косу. Однако пришлось помедлить: занавес раскрылся вновь, и тут такое началось! Сначала оглушительные крики «браво» не давали и слова сказать, приходилось постоянно кланяться. Публика ревела:
— Семенова! Яковлев! Шушерин!
И снова, и снова:
— Семенова! Се-ме-но-ва!
Тут уж как-то не до выволочки за косу… А потом на сцену ринулись члены репертуарного комитета. Семенова и прочие актеры были жарко обцелованы, переходя из рук в руки, и Шушерин никак не мог добраться до безобразницы. А когда бури восторга поутихли, он увидел замкнутого, надменного Гагарина и Катерину, стоящую перед ним с потерянным видом, увидел равнодушно удаляющегося Яковлева… и стало Шушерину, который и отродясь-то дураком не был, а благодаря многочисленным сыгранным ролям и житейской наблюдательности сделался недурным знатоком душ человеческих, до того ее, бедняжку, жалко, что он решил Катеринину косу оставить в покое… Тем паче что коса была, конечно, привязанная, из чужих волос, дернешь и оторвешь, у самой-то Катерины волосы не бог весть какие длинные…
К тому же все кругом кричали про «находку» Семеновой и Шушерина: мол, «находка» сия сделала развязку трагедии еще более эффектной. Ну не станешь же спорить с господами из репертуарного комитета! Им небось виднее!
После спектакля состоялся великолепный ужин, на котором притихшая Катерина сидела рядом с Иваном Алексеевичем Гагариным. К нему постепенно возвращалось доброе расположение духа, а после окончания пирушки карета князя увезла их обоих в его петербургский дом.
В один из майских дней 1808 года небольшая закрытая карета выехала из Парижа через северную заставу. В ней находились двое: очень красивая женщина лет двадцати с небольшим, а также молодой человек необычайно изящного сложения. Подорожные документы гласили, что путешественников зовут Мари-Жозефина Веммер и Луи Дюпор.
— Куда следуете? — спросил жандарм.
— В Россию бежим, — ответил, подмигнув, молодой человек.
Жандарм улыбкой оценил шутку, отвесил красавице поклон и захлопнул дверцу кареты: документы были в полном порядке, подписаны кем положено, с необходимыми печатями, чего еще надо? Пусть мадемуазель и месье следуют куда заблагорассудится: хоть в Россию, хоть в Польшу, хоть в Германию… только бы не в Англию, ибо с Англией мы находимся в состоянии вечной войны!
Жандарм посмотрел вслед карете: истинную красавицу она увозила! Ему невдомек было, что под сиденьем кареты, в особом тайнике, замаскированном под бархатной обшивкой, лежал еще один комплект документов. Впрочем, обнаружь их этот жандарм, он бы страшно удивился: и эти бумаги тоже были выписаны на те же самые имена — Мари-Жозефины Веммер и Луи Дюпора. Правда, на них не значилось никаких печатей и подписей. Именно эти бумаги и будут предъявлены путешественниками в России (а документы с печатями и подписями перекочуют под бархатную обшивку сиденья) в доказательство того, что они «бежали» из Франции от «злобного корсиканского чудовища», сиречь императора Наполеона. Бежали тайно, подвергая опасности свои драгоценные жизни и спасая право любить друг друга… Влюбленный Дюпор, кстати, сообщит, стыдливо потупляя глаза, что принужден был переодеться при бегстве в женское платье! Что ж, он был до того малоросл и субтилен, особенно рядом с величавой Жорж, что осталось только ей переодеться в мужское для довершения маскировки!
Видимо, не понадобилось.
Пограничная служба на российской заставе не заинтересовалась, каким же образом удалось путешественникам вырваться из Франции без нужных документов. О прибытии двух этих лиц предупреждали загодя, причем бумага пришла за подписью рижского губернатора графа Бенкендорфа. Однако, не заезжая в Ригу, французы последовали прямиком в Петербург, где их встретил Бенкендорф-сын, граф Александр Христофорович, и препроводил в свой дом. И буквально на другой день по Петербургу сперва прошелестел, потом пролетел, а потом и шумно пронесся слух о том, что прибывшая из Парижа Мари-Жозефина Веммер не кто-нибудь, а знаменитая актриса мадемуазель Жорж, взявшая псевдоним по имени своего отца и прославившая это имя во всей Европе!
Театральный Петербург встрепенулся. Сразу поползли самые интересные слухи. Правда, насчет Дюпора никто ничего не знал: танцовщик да и танцовщик, у нас уже есть один француз — Дидло, будет теперь еще и Дюпор, а вот касательно девицы Жорж…
Люди сведущие знали — и щедро делились своими знаниями! — о том, что эта самая девица как минимум два года была любовницей самого Наполеона Бонапарта и вызвала столь жуткую ревность императрицы Жозефины, что Наполеон возмутился и сказал кому-то из своих доверенных лиц:
— Она волнуется больше, чем следует. Она постоянно боится, чтобы я не влюбился серьезно. Она не знает, очевидно, что любовь создана не для меня! Что такое любовь? Страсть, которая заставляет забывать всю вселенную, чтобы видеть только любимый предмет. Я же, несомненно, не создан для таких крайностей. Какое же значение могут иметь для нее развлечения, не имеющие ничего общего с чувством любви?
Так или иначе, Наполеон довольно долго продержал при себе это «великолепное двуногое животное» (кстати сказать, ноги-то как раз были у m-lle Жорж слабым местом, Наполеон даже называл их безобразными, правда, она об этом никому и никогда не рассказывала, к тому же ее голова, плечи, руки и все тело были бесподобно прекрасны, просились, что называется, на полотно!) и частенько вызывал актрису к себе в Сен-Клу, да и в Париж. M-lle Жорж развлекала его театральными сплетнями — о, в фойе театра Французской комедии можно было услышать немало интересного, если уметь слушать! Помогал m-lle Жорж собирать слухи ее любовник Костер де Сен-Виктор, который был очень польщен, что делит красавицу с самим императором.
Впрочем, никаких поблажек m-lle Жорж не получала, службу ей пропускать не разрешалось, денег из казны выдавали просто-таки скупо (подумаешь, несколько подачек от десяти до двадцати тысяч франков каждая!). А когда она попросила у Бонапарта его портрет на память, то получила двойной наполеондор[24] с его отчеканенным профилем.
— Вот, возьми, — сказал любовник, — говорят, что я здесь похож.
Скоро о прошлом m-lle Жорж Петербург насудачился вволю и принялся размышлять о ее настоящем и будущем. Что касаемо настоящего, сообщалось, будто Бенкендорф увидел ее, когда был в свите графа Толстого в Париже, влюбился, вызвал, чтобы представить императору свою любовницу, однако m-lle Жорж надеется выйти за него замуж: она-де уже подписывает письма в Париж, маменьке, «Жорж-Бенкендорф» и снисходительно распространяется о мужских достоинствах добрейшего графа. Однако в более узких и более осведомленных кругах шептались, будто Александр Христофорович к m-lle Жорж совершенно равнодушен, а вызвал он ее в Россию для того, чтобы эта особа обольстила не кого-нибудь, а самого Александра Павловича (что хорошо для французского императора, небось и для русского сойдет!), отвлекла бы его от затянувшейся привязанности к Марии Нарышкиной, воротив, наконец, в объятия и в постель забытой законной жены, императрицы Елизаветы Алексеевны.
Впрочем, судя по всему, интрига Бенкендорфа удачей не увенчалась: император прислал m-lle Жорж великолепную, усеянную алмазами пряжку и пригласил в Петергоф… но только один раз, а потом приглашения не повторял. Граф Бенкендорф развел руками и сказал, что никаких матримониальных планов у него не было, к тому же его связь с бывшей любовницей Наполеона может повредить репутации его зятя, Христофора Ливена, который нынче посланником России в Англии. Поэтому… Поэтому m-lle Жорж пришлось вновь вернуться в привычное амплуа и выйти на сцену. Поговаривали, будто Александр давно хотел видеть в России величайшую актрису Франции, обещая ей гонорар в двенадцать тысяч рублей в год и пятнадцать тысяч единовременно сразу по приезде. Цифра была тем паче баснословная, что гонорар таких актрис, как Семенова, составлял 1300 в год.
Что и говорить, спектаклей с участием m-lle Жорж ждали с великим нетерпением, ибо она и в самом деле была великой актрисой своего времени. Ходили слухи, что соперничества с нею не выдержит ни одна русская актриса, все они m-lle Жорж и в подметки-де не годятся. Даже Семенова!
А Катерина Семенова в то время была именно «даже», причем не только в Петербурге, но и в Москве. Вторая столица России приняла ее с таким восторгом, какого и сама Катерина не ожидала. Мало того что билеты на ее спектакли были все разобраны загодя, вся вельможная Москва считала за честь принять у себя красавицу-актрису. Конечно, приглашали и других (по этому поводу ехидный Вальберх, бывший педагог, а ныне партнер Семеновой в танцевальных сценах, писал жене: «Мы, как комнатные собаки, имеем везде свободный доступ!»), однако понятно было, что прежде всего желали увидеть именно Семенову, которую москвичи щедро одаривали нарядами и драгоценностями, увенчали даже бриллиантовой диадемой, а возле дома ее друзей, актеров Сандуновых, у которых она жила неподалеку от Кузнецкого моста, толпились поклонники, желающие увидеть знаменитую актрису. В Петербург долетали слухи: «Вся Москва с ума сошла — так она играла!»
В северной столице такие слухи воспринимали с восторгом — ведь Семенова была своя, петербургская. И хоть положение содержанки при богатом покровителе во все времена считалось не слишком-то почтенным, официальное звание любовницы князя Гагарина странным образом прибавляло Катерине респектабельности, как бы даже не унижая ее.
А почему бы и нет? Гениальной актрисой, истинным бриллиантом русской сцены она была и сама по себе, а ведь всякий бриллиант нуждается в соответствующей оправе. Такую оправу и обеспечивала любовь князя Ивана Алексеевича.
Катерина перебралась из убогой казенной квартиры в доме купца Латышева в Торговой улице в другую, роскошную, ставшую своего рода салоном для театралов, где, по рассказам завзятого мемуариста (или сплетника, кому как больше нравится) Жихарева, она расхаживала, окутанная «в белую турецкую шаль, на шее жемчуга, на пальцах брильянтовых колец и перстней больше, чем на иной нашей московской купчихе в праздничный день». Кстати, именно в квартире Катерины стояла скульптура Гальберга, изображавшая сатира — поклонника муз. Скульптура сия была изваяна по заказу Гагарина с него самого — дабы увековечить его страсть к искусству.
Да, князь Иван Алексеевич был влюблен не только в редкостную красоту Катерины Семеновой, но и в ее редкостный талант. Овдовев к тому времени, он не помышлял о новом выгодном браке и сам занимался воспитанием своих детей — в то время, когда не был занят поклонением возлюбленной актрисе. Престиж его в театральной среде теперь еще более поднялся: ведь на князя падал отблеск этой ярчайшей звезды.
Впрочем, и он поклонялся ее свету истово, раболепно! Как член репертуарной комиссии, он должен был заботиться обо всех актерах, но сосредоточил свое внимание именно на Катерине. Когда у Шаховского читали новые пьесы, Гагарин искренне недоумевал, если начинали хвалить ту, где не было роли для его обожаемой Семеновой. В то же время расположение Гагарина было обеспечено всем, кто имел хорошие отношения с Катериной и хоть сколько-нибудь ей полезен. Например, Николай Гнедич, который занимался с Катериной, помогая разучивать трагические роли, вскоре получил при протекции Гагарина особый пенсион на «совершение перевода «Илиады».
Любовь и покровительство князя Ивана Алексеевича оберегали Катерину от назойливых домогательств других поклонников (актрисы считались как бы всеобщим достоянием, и приволокнуться за той или иной, хоть бы даже и замужней, считалось делом само собой разумеющимся, добродетели особенной от них не ждали, скорее, даже удивлялись, натолкнувшись на эту самую добродетель), защищали от нужды (увы, заработки актеров были невелики), позволяли держаться независимо в театре, знать все о замыслах и намерениях репертуарной комиссии. Правда, это отъединяло Семенову от коллег-актеров, многие из которых откровенно завидовали ее независимости. Ее считали надменной гордячкой, а она была просто замкнутой по натуре.
Безмерно благодарная князю Ивану Алексеевичу, Катерина не любила его. А любовь-то как раз и была необходима этой безмерно пылкой, нежной, чувствительной женщине, которая, хоть умри, никак не могла воплотить в жизнь настоятельный совет Дмитриевского «не любить, а играть любовь».
Умерла ли ее прежняя страсть к Яковлеву? Кто знает. Душа такой женщины, как Катерина Семенова, — потемки… Нет, на Алексея она больше даже не глядела. Разве что на сцене, когда этого требовала роль. Но, видимо, страстный огонь ее очей был в таких случаях до искорки рассчитан режиссером.

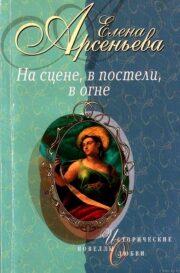
"На сцене, в постели, в огне" отзывы
Отзывы читателей о книге "На сцене, в постели, в огне". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "На сцене, в постели, в огне" друзьям в соцсетях.