– Принеси мне шлем, Бретти, – попросила она.
Он бросился туда, где хранилась упряжь. Возле сундука с надписью «вещи Майк» он встал на колени, с трудом поднял крышку и стал рыться в ворохе шлеек, скребков и подков, пока не нашел черный бархатный шлем. Зажав его под мышкой, он бегом вернулся в манеж.
Мать уже сидела в седле, положив обе руки на холку.
– Спасибо, дорогой, – поблагодарила она.
Когда мать вывела Пулю на беговую дорожку, Брет уже занял свое любимое место: вскарабкался по жердям и уселся сверху.
Они кружились по манежу. Брет видел, как мать ускоряет ход лошади, постепенно разогревая ее: сначала шагом, потом трусцой, рысью, быстрой рысью и наконец галопом. На его глазах лошадь и всадница сливались в единое живое существо.
Брет безошибочно угадал момент, когда мать приготовилась преодолеть препятствие. Он много раз наблюдал это и подмечал малейшие изменения в ее посадке, которые предшествовали прыжку.
Но на этот раз он заметил что-то странное.
– Подожди, мама! – крикнул он, наклоняясь вперед. – Кто-то сдвинул планку…
Но она не слышала его. Пуля занервничала, хотя мать всеми силами старалась выпрямить ее бег, чтобы вписаться в дугу и ровно подойти к препятствию.
– Тихо, девочка… Не волнуйся…
Брет хотел выбежать на манеж, но вспомнил, что ему это запрещено, тем более когда мать готовится к прыжку.
Кричать было поздно. Мать уже подъехала к препятствию. Брет чувствовал, как сердце бешено колотится у него в груди.
Что-то не так! Эти слова, раз возникшие в его сознании, с каждым мгновением становились все более навязчивыми и пугающими. Ему хотелось закричать, но в горле встал тугой комок.
Серебряная Пуля с лету преодолела фальшивую кирпичную стену. Брет услышал, как мать радостно рассмеялась. Но минутное облегчение растаяло без следа. Серебряная Пуля вдруг замерла.
Секунду назад мать смеялась, а теперь перелетела через голову лошади и с такой силой ударилась о столб, что вся изгородь заходила ходуном. Еще мгновение – и вот она лежит на песке, распластанная, словно лист скомканной бумаги.
В манеже воцарилась полнейшая тишина, в которой Брет мог различить только собственное жаркое дыхание. Лошадь стояла не шелохнувшись, как будто ничего не произошло.
Брет слез с изгороди и помчался к матери. Он упал на колени рядом с ней. Из-под бархатного шлема струилась кровь, щедро смачивая пряди темных волос, выбившихся на лоб.
– Мам? – Он робко потряс ее за плечо.
Волосы шевельнулись, и он увидел, что ее левый глаз открыт.
Сестра Брета Джейси первая услышала его крик и прибежала в манеж, завернувшись в отцовский плащ.
– Бретти… – начала она испуганно и тут заметила мать, неподвижно лежащую на песке. – О Господи! Не трогай ее! Я сейчас позову папу!
Брет был не в силах прикоснуться к матери, даже если бы захотел. Он лишь безмолвно молил Бога, чтобы она встала.
Наконец прибежал отец. Брет протянул к нему руки, но он не заметил его и прямиком бросился к матери.
Брет отпрянул к изгороди и больно стукнулся спиной о столб. Он стоял и смотрел, как по лицу матери струится кровь.
Отец встал рядом с ней на колени и поставил на землю свой черный докторский саквояж.
– Держись, Микаэла, – прошептал он, осторожно снимая шлем с головы жены. Может быть, это следовало сделать Брету? Затем отец просунул пальцы ей в рот и разжал зубы. Мать закашлялась, и мальчик увидел, как по отцовским пальцам течет кровь.
У отца всегда были такие чистые руки… А теперь кровь мамы повсюду, даже на белоснежных манжетах отцовской пижамы.
– Держись, Майк… Мы с тобой… Останься с нами… – снова и снова повторял отец.
Останься с нами. Это значит – не умирай. Значит, она может умереть.
– Звони 911, немедленно, – приказал отец дочери.
Казалось, прошла вечность, пока они вдвоем молча стояли рядом с матерью. И вдруг глухую предрассветную мглу прорезали вой сирены и скрип колес машины «скорой помощи», которая мчалась по подъездной аллее.
Через минуту в конюшню вбежали два санитара с носилками. Брет плохо понимал, что происходит. Он слышал только биение собственного сердца.
И не переставал молить Бога о спасении матери. Но стоило ему открыть рот, чтобы произнести молитву вслух, как что-то сдавливало горло, мешая говорить и даже дышать.
Тогда он зажал рот рукой, потом заткнул уши, закрыл глаза, оперся спиной на изгородь и стал молиться молча, изо всех сил.
Она умирает.
В ее сознании проносятся отрывочные мысли. Благоухающие после дождя розы, запах песка на берегу озера, где она впервые ощутила вкус поцелуя. Слишком многое вернулось к ней в переливчатой, густой сети сожаления.
Ее куда-то тащат, укладывают на узкую, неудобную кровать. Свет так ярок, что невозможно открыть глаза. Ревет мотор, и машина трогается с места так быстро, что это причиняет боль. О Господи, как больно…
Словно издалека она слышит голос мужа, ласковый, успокаивающий, тот, к которому привыкла за последние десять лет. Она не слышит голосов детей, но понимает, что они рядом и смотрят на нее. Больше всего на свете ей хочется сказать им хоть слово, которое ободрило бы их.
Из ее глаз текут горячие слезы и падают на наволочку неприятно пахнущей подушки. Ей хочется проглотить слезы, чтобы дети их не видели, но она полностью потеряла контроль над собой. Она не может даже поднять руку, чтобы помахать им на прощание.
Но может быть, она вовсе не плачет? Просто ее душа по капле покидает тело, и это никому не дано увидеть.
Глава 2
В молодости Лайем Кэмпбелл никак не мог покинуть Ласт-Бенд. Город казался ему маленьким, ничтожным и зажатым мертвой хваткой в кулаке его прославленного отца. Куда бы Лайем ни отправился, его сравнивали с отцом, отчего он чувствовал себя ничтожным. Даже дома на него смотрели как на пустое место. Его родители так любили друг друга, что в их доме не оставалось места для сына, который любил читать книги и мечтал стать пианистом.
К его огромному изумлению, Гарвард захотел видеть его в числе своих студентов. К тому времени, когда он окончил курс, стало понятно, что карьера выдающегося пианиста ему заказана – для этого недостаточно быть лучшим в Ласт-Бенде и даже в Гарварде. Возможно, хороший учитель помог бы ему, но у него не было ни ослепительного таланта, ни злости, ни отчаянной страсти стать лучшим из лучших. Поэтому он отказался от своей юношеской мечты и посвятил себя медицине. Он чувствовал, что не в силах проникать внутрь человеческой плоти, но может врачевать ее снаружи. Он занимался день и ночь, понимая, что такой заурядный человек, как он, добьется успеха, только став лучше других.
Он закончил курс намного успешнее своих приятелей и получил место, о котором можно было только мечтать. Его взяли в клинику, где лечили больных СПИДом. Эпидемия набирала обороты с устрашающей силой. Лайем поверил, что на этом поприще сумеет добиться успеха и признания и наконец почувствует себя настоящим мужчиной.
В палатах клиники, насквозь пропахших смертью и отчаянием, он научился многому, и только слова: «Все в порядке. Вы идете на поправку» – ему не довелось сказать ни одному пациенту.
Вместо этого он прописывал лекарства, которые никого не спасали, и на обходах пожимал с каждым днем слабеющие руки. Он принимал новорожденных, которым не суждено увидеть Париж, и без устали подписывал свидетельства о смерти. Вскоре он уже не мог смотреть на свою авторучку без содрогания.
Когда его мать умерла от сердечного приступа, он вернулся домой и стал заботиться об отце, которому впервые в жизни понадобился сын. Лайем не оставлял мыслей о том, чтобы снова уехать из дома и искать свое место в жизни, но тут встретил Микаэлу…
Майк.
Рядом с ней он наконец обрел свое место.
И вот теперь он сидит в больнице и ждет, когда ему скажут, будет она жить или…
Они здесь всего несколько часов, но кажется, что прошла вечность. Он представлял, как дети сидят в холле обнявшись и Джейси вытирает со щек брата слезы. Ему бы хотелось быть с ними, поддержать, но он боялся, что слезы, которые невольно катятся у него по щекам, окончательно подорвут их силы.
– Лайем?
Он вздрогнул и обернулся на голос. Движение было настолько резким, что он сдвинул с места носилки и тут же испуганно придержал их.
Перед ним стоял доктор Стивен Пени, главный врач отделения неврологии. Хотя они были ровесниками – обоим недавно стукнуло пятьдесят, – Стивен казался намного старше и выглядел усталым. Когда-то они вместе играли в гольф и не думали, что им придется встретиться при столь чудовищных обстоятельствах.
– Пойдем, – сказал доктор, тронув друга за плечо.
Они шли бок о бок по строгому больничному коридору, пока не свернули в отделение интенсивной терапии. Лайем заметил, как сестры из травматологии стараются избежать его взгляда, и впервые понял, что значит быть родственником больного.
Наконец они вошли в палату со стеклянными стенами, где на узкой койке за прозрачной занавеской лежала Микаэла. Она была похожа на сломанную куклу, привязанную за руки и за ноги к машине, поддерживающей в ней жизнь. Мониторы компьютера отражали показатели ее сердечной деятельности и внутричерепного давления. Дыхательный аппарат помогал ей дышать, в палате раздавались звуки работающего поршня.
– Ее мозг функционирует, но мы не знаем, в какой степени это следствие лекарств, – сказал Стивен и воткнул в ступню Микаэлы иглу. Она никак не отреагировала, и он воздержался от комментария, после чего провел еще несколько тестов, результаты которых мог оценить и Лайем. Понизив голос, он продолжил: – Нейрохирург уже на борту самолета и мчится сюда, но проблема в том, что мы не обнаружили ничего, что требовало бы его вмешательства. Мы постоянно исследуем ее состояние, контролируем давление и работу сердца. Стараемся не допустить кровотечения… Словом, делаем все, что в наших силах.
Лайем закрыл глаза. Впервые в жизни он пожалел о том, что стал врачом. Он предпочел бы оставаться в неведении, довольствуясь сознанием того, что здесь лучший в штате медицинский центр и лучшие врачи, которые сделают все возможное. Но он слишком хорошо понимал, что никакие врачи не могут помочь его жене в настоящий момент, что придется ждать и результат ожидания непредсказуем.
– Не представляю, как жить без нее… – вырвалось у него вдруг.
Стивен взглянул на приятеля, и глубокая печаль возникла в его глазах. На какое-то мгновение он перестал быть врачом и превратился в обычного мужчину – мужа, отца, друга.
– Ситуация прояснится к завтрашнему утру, если… – Он не закончил фразу.
Если она доживет до утра.
– Спасибо, Стив, – прошептал Лайем, так что его голос едва перекрыл шум дыхательного аппарата и мерное бульканье капельниц.
Стивен, который уже дошел до двери, вдруг обернулся:
– Мне очень жаль, Лайем.
Не дожидаясь ответа, он вышел, а спустя какое-то время вернулся в сопровождении нескольких сестер. Они переложили Микаэлу на носилки и увезли делать анализы.
Лайем в это время думал о том, что мужественность определяется вовсе не тем, что мужчина может прыгнуть с парашютом или вступить в единоборство с дюжиной вооруженных противников. Мужество – это хладнокровие в ситуации, когда кажется, что все потеряно. Оно проявляется в том, чтобы вытирать слезы со щек своих детей, когда и они, и ты сам понимаешь, что ничего не можешь сделать; чтобы, глотая слезы, идти вперед и молить Бога, в которого ты не веришь, о спасении – а значит, рассчитывать только на собственные силы.
Лайем отказался от собственного страха. Он постарался сосредоточиться на тех вещах, которые следовало сделать в данной ситуации. Он знал, что единственный способ противостоять горю – это не сбиваться с налаженного ритма жизни, а если к тому же удастся поменьше общаться с другими людьми, то это только на благо. Прежде всего Лайем позвонил своей теще Розе Луне и оставил на автоответчике сообщение с просьбой срочно связаться с ним. Затем, не в силах дольше откладывать, спустился в холл.
Джейси сидела у входа и читала журнал. Брет пристроился рядом на полу и возился с игрушками.
Лайем почувствовал, что у него дрожат руки. Он скрестил их на груди и с минуту простоял без движения, стараясь прийти в себя. Господи, помоги! Произнеся молитву, он раскрыл объятия навстречу детям.

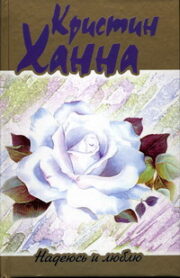
"Надеюсь и люблю" отзывы
Отзывы читателей о книге "Надеюсь и люблю". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Надеюсь и люблю" друзьям в соцсетях.