Пять лет она из своего скудного заработка прядильщицы, трудясь усердно и утром, и днем, и вечерами, оплачивала обучение любимого единственного сына. Ей хотелось, чтобы он стал таким же образованным, как его отец. Она понимала, что монастырь — это путь, и, может быть, один из лучших путей, но все же ей не хотелось расставаться с мальчиком, и, хотя он был еще маленьким, в глубине души она мечтала о мирском счастье для него, о свадьбе, о красивой и доброй жене, о богатом хорошем доме, где он жил бы со своей семьей тепло и радостно. Сам Андреас еще никаких своих желаний о будущих своих занятиях не объявил ей… Ах, если бы отец вспомнил о сыне, помог бы, подал бы нужный совет, направил бы на какой-то нужный путь. Денег от него ни ей, ни мальчику не нужно. Только доброта и внимание… Но отец о сыне и не вспоминал. Она никогда не говорила мальчику об отце ничего плохого. Но теперь он первым не пошел бы к отцу, как тогда, когда он был совсем маленьким; теперь в душе его проснулась горделивость подростка. Мать заметила, да и нельзя было этого не заметить, что мальчик ее, вырастая, делается ранимым, иногда он теперь отвечал дерзостями на ее обычную о нем заботливость. Должно быть, он теперь не все о себе мог сказать ей. Она понимала, что ему нужны мужские слова заботы, нужен старший друг. Но как помочь? Вспомнила она и о резчике. Тот был давно женат, имел уже детей. Прежде он так по-доброму относился к маленькому Андреасу. Но ведь это потому что Ганс был неравнодушен к ней. Но не поговорить ли с ним, не возьмет ли он Андреаса в ученики? Наверное, и мальчик согласился бы, ведь у Ганса ремесло интересное и непростое. Но нет, резчик может неправильно истолковать ее обращение к нему, а она дорожила своей славой честной женщины. Так месяц прошел после того, как Андреас окончил свое учение в монастыре. Стало чувствоваться, что и он тревожится. Уже все его приятели начали учиться каким-то ремеслам, не были уже мальчиками, но считались почти юношами. А он еще ни за что не взялся, ничему не решился обучаться. Андреас сделался резким, нервным, часто вовсе не отвечал на участливые вопросы матери; и она понимала, что он молчит, потому что не хочет быть дерзким с ней.
Лето выдалось совсем теплое. Зацвели сладким цветом липы. Но в комнате, где жили Елена и ее сын, было пасмурно, тревожно. Андреас остановился у окна и видел красную закатную полосу на небе. Солнце садилось чисто, ярко. И эти небесные чистота и яркость еще усиливали плохое настроение мальчика; так чисто, ясно и красиво было перед его глазами на небе, и так тяжело и тоскливо у него на душе. Он услышал, как вошла мать. Прежде он, зная, что она по пути из мастерской непременно завернет на рынок, уже пустеющий к вечеру, и купит что-нибудь вкусное для него, спешил, когда она входила, помочь ей, брал у нее корзину. Но теперь он даже и не обернулся. Ему были неприятны заботы матери о нем, он считал себя недостойным таких бережных попечений.
Он слышал, как мать подходит к столу, ставит корзину.
— Я успела купить куриные потроха, очень хорошие, — сказала она.
Зачем она говорит таким голосом, будто ничего не происходит плохого в жизни Андреаса? О, конечно, она понимает, она боится огорчить его, обидеть. Но лучше бы она бранила его, попрекала бездельем. Пусть это покажется странным, но тогда ему было бы легче. А так…
Он резко повернулся от окна, красно озаренного вечерним солнцем, и, не глядя на мать, быстро прошел к постели, бросился ничком, перекатился на бок и лежал лицом к стене.
— Андреас, — позвала мать нерешительно. — Ты поешь? Я сейчас приготовлю ужин…
Когда он вот так бросился на постель, у нее сердце заболело, таким он виделся ей хрупким, беззащитным, страдающим. И она не знала, как же успокоить это его страдание, и хотела, если уж не знает она, как утешить его душу, хотя бы напитать его пищей для тела. Но вышло так, что она лишь усугубила его страдание.
— Оставь меня! — едва сдерживая детский отчаянный гнев, проговорил он.
Матери так хотелось обнять его хрупкие плечики, поцеловать родинку сзади на шейке, совсем такую же, как у нее… Но она боялась, что этой своей нежностью обидит его еще сильнее. Молча принялась она готовить ужин, то суетилась у стола, то шла на кухню…
В комнате запахло вкусным куриным супом. Елена накрыла на стол. Теперь надо позвать мальчика. Но как это сделать? Неужели он не проголодался? А вдруг он захворал? Вдруг он лежит и не хочет есть, потому что ему больно? Этого предположения она не могла выдержать.
— Андреас, — она подошла к постели. — Надо поесть. Тебе нехорошо? Что с тобой?
— Хорошо мне! — он резко вскочил и, насупившись, боком подошел к столу.
Но у матери тревога уменьшилась. Нет, он не выглядел больным, он, конечно, сейчас поест. Слава Богу!..
Они ели молча. Андреас не хотел говорить, а мать боялась первой заговорить с ним. Перебирала все, что можно было бы сказать ему, чтобы хоть как-то его развлечь… Какие-то мелочи, вроде того, что на рынке у одной торговки птицей вырвался петух, еле поймали его… Но сейчас такими мелочами Андреаса не развлечешь, только обидишь…
Андреас поел быстро, разделся за ширмой и переоделся в ночную рубашку, быстро откинул одеяло, лег, почти прижавшись лицом к стене. Елена с горечью подумала, что такому большому мальчику уже нужна своя кровать, ему неловко спать на одной постели с матерью. Хотя кровать широкая, и когда они ложатся, далеко отодвинувшись друг от друга, остается между ними неровная полоса. Но все равно… И сама она не знает, когда же она сможет купить для него кровать, ведь они бедны. Она бы ложилась на полу, но он не дает, жалеет ее. Он сам хотел было спать на полу, но тут она воспротивилась, ведь на полу холодно, из щелей дует… Она в горьком раздумье сидела у стола. Она не хотела ложиться, пусть мальчик спокойно поспит, отдохнет. Надо бы ей пока поработать, но она чувствовала такую усталость, что и не могла взяться за прялку…
Очнулась она, от того что солнце светило прямо в глаза. Голова болела. Она так и проспала всю ночь, головой на столешнице. Подняла голову, разогнулась, в глазах плеснули болезненно-радужные искорки. Надо скорее умыться холодной водой. И ведь она опоздала в мастерскую, она там работает много лет, можно сказать, что всю свою жизнь, но опаздывает она так редко; она гордится тем, что ее почитают за усердную, трудолюбивую работницу… Есть она сейчас не будет. Но надо накормить Андреаса, приготовить ему… В глаза ей бросилась пустая постель. Она выбежала в коридор… Но она уже чувствовала, что мальчик ушел. Голодный. И ей надо бежать в мастерскую. Но теперь она все будет думать, как там ее Андреас, поел он… Как хорошо было, когда он был маленьким, она брала его с собой и он играл рядом с ней обрезками тканей, спутанными нитками; все любили его, старались побаловать, кто лакомством, кто игрушкой незатейливой… Он был послушный мальчик, слушался ее… А теперь он почти юноша, ему уже одиннадцать… И что делать, что же делать? Как помочь ему? И не забудет ли он поесть, разогреет ли куриный суп? А хлеб? С вечера не осталось. Если бы он догадался купить… А то без хлеба станет есть… Вот, она оставит ему деньги… вот здесь, на скатерти, на самой середине стола, чтобы он сразу увидел… Но ей надо бежать… Она еще никогда за все годы не опаздывала так…
Пока мать быстрыми шагами спешила по утренней улице, Андреас уже был за городскими воротами. На лето занятия в монастыре прекращались, многие ученики помогали своим родным на полевых работах, а те, кто победнее, нанимались за плату. Андреас подумал, что ведь и он и его мать бедны. А ведь она никогда не хотела, чтобы он батрачил летом. Даже и мысли такой у нее не бывало. Как мучительны ему сейчас ее заботы… Как будто он еще маленький, или больной, так она усердно, бережно заботится о нем. Но ему не нужно, не нужно этого! Он уже взрослый, он сам должен позаботиться о ней…
Андреас повернул с этой протоптанной тропы, давно исхоженной, и пошел в глубину леса. И эта дорога была ему привычна. Он выйдет к своему роднику. Среди зеленой летней листвы разносился птичий щебет, нежный и отчетливый. Ему показалось на мгновение, что он даже может различить отдельные звуки. Захотелось и самому насвистеть эти звуки птичьи… Вспомнилось, как один из его приятелей сделал дудочку-манок. Так хорошо было свистеть в нее. Но ловить птиц Андреас не хотел. И все это — детские забавы. А его приятели сейчас уже за работой, скоро сделаются молодыми подмастерьями. И только он бездельничает, как больной. Может быть, стоило остаться в монастыре? И почему мать не захотела этого! Теперь он готов был винить ее… И почему она все решила за него? А, может быть, ему даже хочется стать монахом! Он сможет много читать, он будет обращаться к Богу не так совсем, как обращаются миряне, загрязненные своей земной телесной жизнью; а он будет говорить с Богом почти слыша ответ… Может быть, он и сам сделается настоятелем… Эта мечта показалась ему дерзкой. Он опустил голову и пошаркал подошвой башмака по темной земле, маленьким холмиком выступившей из травы… И почему это мать не позволила ему остаться в монастыре? Теперь ему уже казалось, что он всегда хотел остаться, а мать не позволила… То, что монахи не женятся, вот что ей не нравится. Ну и пусть! Он никогда и не хотел жениться! И не собирается он грязнить свое тело. Он знает, что женщина есть сосуд греха. «Mulier» называется она по-латыни. И это есть имя порчи и природы. Он хорошо учился и знает. A «virgo» — «дева» — это имя славы. «Женщина» — имя порчи и природы, а «дева» — имя славы. Только черти называют Богоматерь «женщиной», потому что боятся назвать ее по имени, не смеют… Он будет подвижником, будет и чужие грехи замаливать. И мать не сможет помешать ему…
Вдруг ему пришло в голову, что он ведь может прямо сейчас пойти в монастырь. Зачем спрашивать позволения у матери? Она не понимает его. Он уже взрослый, и не будет он спрашивать позволения!..
Да, он пойдет в монастырь и останется там… Но все эти ершистые мысли были как бы на поверхности его сознания, словно пена бывает на поверхности воды. А в глубине души он продолжал любить свою мать и даже не знал, решится ли он, сможет ли просто пойти сейчас в монастырь, не говоря уже о том, чтобы там остаться без ее позволения. Он не решался вовсе не потому, что боялся ее, нет, она никогда его не наказывала, ни разу не ударила. Но он любил ее и не хотел огорчать ее, потому и чувствовал, что, наверное, так и не решится даже просто пойти сегодня в монастырь…
Он отложил это решение и пока решил пойти к своему роднику. Он немного успокоился и шел беспечно, чуть пригибаясь и сутулясь немного иногда, как многие мальчики его возраста. Как многие из них, он сильно размахивал тонкими руками, резко выбрасывал при ходьбе тонкие ноги с круглыми коленками. И по всему этому виделся неловким и беззащитным.
Уже совсем близко подойдя к роднику под большим деревом, он внезапно замер. На миг сделалось ему страшно. Он ясно расслышал громкие шорохи, и кто-то пил… Зверь? Дикий лесной зверь? Большой… Он все же не настолько был увлечен своим страхом, и прислушался. Нет, кто-то пил, как человек, такими громкими глотками. Как человек, который устал и наслаждается чистой свежей водой.
«Может быть из моей чашки пьет», — подумал Андреас. Но это предположение вовсе не возмутило его, ему только стало интересно, любопытно.
Это детское любопытство вытесняло досаду и обиду. Но еще немного хотелось чувствовать себя обиженным. И он нарочно подумал страшное — «А вдруг это разбойник?» Мать всегда боялась разбойников, но не за себя, за него боялась; боялась, что его самого вдруг возьмут и украдут, или обокрадут их бедную комнату… Он почувствовал такую жалость к матери… Зачем он думал о ней разные оскорбительные глупости, будто она его не понимает, хочет помешать ему… Ведь он так любит ее!.. Он уже сознавал, что когда он думает, а не разбойник ли это пьет из его чашки, это он просто как бы играет в такую игру… Страшно не было на самом деле… Стало совсем интересно… Он вдруг еще подумал, что разбойник не стал бы так громко пить и громко так шуршать… Стало совсем интересно, захотелось посмотреть, захотелось чего-то нового в своей жизни… Вот он сейчас заговорит с этим человеком…
Андреас быстро пошел к дереву. Теперь он ясно видел, что это не зверь, а, конечно же, человек. Но разглядеть его внимательно Андреас не смог. Человек резко повернулся, и быстрыми-быстрыми, сторожкими движениями отбросил чашку и выхватил откуда-то из складок пояса нож. Было светло и лезвие блеснуло на солнце, быстро соотнесясь в сознании мальчика с блеском легко плещущей воды…
Почему-то именно в это мгновение, казалось бы, вовсе не подходящее для подобных мыслей, Андреас вспомнил то, что сам и придумал сказочно то, что его родник напоит лишь тех, кто угоден роднику, а значит, только хороших людей. Андреас знал, что, в сущности, сам придумал это, но и сам в это верил, особенно почему-то теперь, когда человек замахнулся на него ножом. Андреасу именно теперь, в эти мгновения пришло в голову, что, может быть, он это о роднике и не придумывал, а просто это ему далось такое знание об этом свойстве родника, а кажется, будто придумалось… А это не придумалось, это далось… Андреас сам для себя мыслил Бога не нарисованным или из камня, как в церкви, но даже и не существом, а свойством доброты, разлитым повсюду, все пронизывающим. Но об этом своем ощущении Бога он не говорил даже матери. Он чувствовал, что в этом его ощущении что-то не так, как у всех окружающих. И потому его мать стала бы еще больше тревожиться о нем, если бы узнала все это; хотя она сама поняла бы его. Может быть, потому что сама наделена была чувствами и умом; а, может быть, просто потому что была его матерью. Здесь была еще одна его тайна, которой он ни с кем не делился; когда он смотрел на каменную статую Богоматери с Младенцем, он не мог отвлечься от своего знания о том, что эта статуя сделана с его матери и с него самого. Он всегда это знал, и потому чувствовал, что вот есть эта статуя, и это как-то приподымает его и его мать, возвышает, возносит куда-то в светлую чистоту…

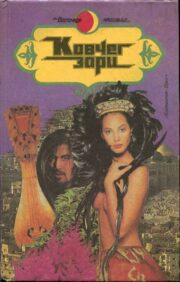
"Наложница фараона" отзывы
Отзывы читателей о книге "Наложница фараона". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наложница фараона" друзьям в соцсетях.