И вдруг кто-нибудь прерывал песню:
— Поем, будто Гирш Раббани!..
И тотчас все начинали петь громче и звонче, будто желая перепеть Раббани, который не изменял своей давней привычке петь за работой…
Украшения для каменных одежд святых апостолов Андреас тоже исполнял в мастерской Михаэля. Михаэля даже порицали за это, но он отвечал своим хулителям, что не прикасался ни он, ни другие в его мастерской к этой работе, исполнял ее один Андреас Франк, а отказать ему и не дать работать в мастерской он, Михаэль, не вправе, потому что Андреас уже хорошо работает и многие заказы исполняет для мастерской…
Когда Элиас Франк увидел в соборе работу своего единственного сына, услышал, как восхищаются громко этой работой, он тоже почувствовал гордость, но все что-то мешало, препятствовало этой гордости проявиться, развиться, и ему не было ясно — что…
Как раз около того времени в окрестностях города случилась эпидемия какой-то болезни, вроде заразной лихорадки. Город спасся лишь тем, что ворота какое-то время были закрыты и чужих пускали с большим разбором. Ощутился недостаток в съестных припасах.
— Мама, это голод? — спросил Андреас.
Но мать отвечала, что нет, это еще не голод, еще ведь есть мука, пусть и черная, чтобы печь хлеб, и вяленое мясо, и пиво. Но она все опасалась за мальчика, что он мало ест. А ведь это было как раз тогда, когда он только стал есть хорошо и охотно, а то ведь, когда он был поменьше, приходилось иной раз чуть ли не насильно кормить его. И вот теперь он хочет есть, а еды мало. Пошли было слухи, что в еврейском квартале припрятана мука. Но тут эпидемия вроде бы прекратилась, городские ворота открылись, и слухи затихли сами собой. Была ли припрятана мука в еврейском квартале, Андреас не знал. В доме его сестры, жены Михаэля, пекли хлеб из черной муки. Обычно служанка и подросток-слуга приносили обед в мастерскую. Однажды парнишка заболел, очень боялись, вдруг, той самой болезнью, она заразная, может пойти болезнь из еврейского квартала по городу, и ничего хорошего не выйдет из этого. Служанка носила обед по-прежнему, Маркус или Бэр помогали ей. Наконец поняли, что это, слава Богу, не та, другая болезнь, незаразная. До этого Михаэль боялся посылать Андреаса в свой дом, а теперь попросил его помочь служанке. Андреас пошел к сестре. Пока увязывали в узлы посуду с едой, он вдруг почувствовал, что очень сильно захотел есть. Прошел на кухню, увидел черные лепешки, и сунул, отломив несколько кусков, под рубашку, прижав к груди одной рукой. В свободную руку взял он тоже лепешку и прикусил. Тут вошла сестра. Ему сделалось неловко. Он опустил руку с лепешкой и не смел еще откусить. Сестра встревоженно спросила, что с ним, неужели он так голоден. Он с неловкостью отвечал, что не так уж. Она посмотрела, как он рукой прижимает к груди под рубашкой хлеб. Он проследил ее взгляд. Было так, будто она что-то обдумывала. Она быстро вышла из кухни и тотчас вернулась и принесла чистую легкую ткань подрубленную. С некоторым смущением она предложила Андреасу увязать хлеб в этот широкий платок. Он отвернулся, вынул хлеб из-под рубашки и положил на расстеленный платок. Затем отвернулся от платка и чуть отошел. Сестра увязала хлеб в узелок и подала Андреасу. Как раз были готовы узлы с обедом. Служанка взяла два узла, сестра велела взять Андреасу еще один. Ему сделалось неловко, что молодая женщина будет нести два узла, а он — один. Он хотел взять у нее еще узел. Она усмехнулась и слегка отдалилась. Он увидел ее усмешку и еще более смутился, потому что ему вдруг показалось, что все это похоже на любовную игру, как по воскресным и праздничным дням заигрывали друг с дружкой парни и девушки в тупике с качелями. Сестра тоже заметила усмешку служанки и посмотрела на нее строго, и это еще увеличило смущение Андреаса.
— Ты не слуга и не носильщик, — строго сказала ему сестра.
Он взял один большой узел и свой маленький узелок с хлебом и пошел следом за служанкой. Она шла молча и не огладывалась. Он боялся случайно нагнать ее и следил за своими шагами, чтобы держаться строго за ней и не оказаться случайно рядом. В мастерской он, конечно, выложил хлеб из маленького узелка на стол, чтобы все ели. Но уже на другой день понял, что сестра мужу рассказала этот случай с хлебом. Михаэль стал давать ему хлеба и другой еды больше, чем остальным. Сначала это смутило Андреаса, но он вскоре заметил, что все в мастерской принимают это как должное и стал охотно есть, ему и вправду хотелось много есть; наверное потому что он сильно рос и много работал. Кроме того, в еврейском квартале не ели ни ветчины, ни сала, ни свиной колбасы, на эти кушанья был наложен запрет вероучением; а мальчик привык дома именно этими лакомствами насыщаться, и потому в мастерской ему надо было есть больше, чтобы почувствовать себя сытым. И еще — когда он после вспоминал этот случай с хлебом — вроде бы все логично было, но все же в этом логичном и доброжелательном поведении сестры и ее мужа он ощущал какое-то странное заискивание… Или ему казалось?.. И было как-то странно похоже на то, как Михаэль когда-то держал себя с этим Дитером, покупателем серебряной уксусницы, наемником Гогенлоэ. Вот оказывается, Андреасу это запомнилось, ведь тогда он получил золотую монету — что-то вроде первого своего заработка. Но об этой монетеон очень редко вспоминал… И еще одно — он подумал, что у служанки не было этого странного и тревожного заискивания, и он был даже благодарен ей за это, хотя кое-чем иным она его и смутила. Но то, иное, ощущалось легким пустяком в сравнении с этим, странным и тягостным…
Во время эпидемии заразной лихорадки умерли сестра Елены и муж сестры. У них не было детей. Никаких родных у мужа не осталось и, казалось бы, единственной наследницей могла считаться Елена. Тем не менее оказалось, что на землю, дом и имущество претендуют помимо нее один из отпущенных крепостных Гогенлоэ, а также монастырь. Претензии крестьянина основывались на том, что его покойная тетка была когда-то замужем за каким-то дальним родственником мужа сестры Елены. Настоятель же монастыря уверял, что муж сестры Елены при жизни своей дал обещание, что все его имущество, и дом, и земля отойдут монастырю после его смерти; и, мол, это обещание могут подтвердить монастырские свидетели. Казалось бы, при таких обстоятельствах Елена никогда ничего не получит. И ради себя она не стала бы ничего добиваться. Но ей жаль было обездоливать сына, ведь он на все это имел законное право, зачем же все это кому-то уступать… Но мальчику она ни о чем не говорила. А сама задумалась, что же делать… Решила пойти за советом к отцу мальчика. Ведь он судья, он все правила и законы знает. Сейчас она не испытывала неловкости, желая обратиться к нему, ведь это делается для сына, Андреас скоро станет совсем взрослым, ему нужны будут деньги, он захочет жениться… Но Андреасу она о своем желании обратиться за помощью к его отцу ничего не сказала. Одержимый горделивостью ранней юности, он, конечно, начал бы протестовать, противиться, сердиться… Потому она ничего ему не сказала…
Все же она волновалась, идя в суд; и сама не могла понять, почему; ведь память о давней любви давно похоронена и она может сказать, что ничего не помнит, ничего не чувствует. Может быть, и странно, но это волнение ее совершенно исчезло легко, когда она увидела его, судью. В сущности, она впервые в своей жизни видела его судьей, в суде. Идя сюда, она еще волновалась, потому что представляла себе, как трудно будет выговорить эти слова объяснения, что, вот, она пришла к нему ради сына, ради его сына… Так мучительно-унизительно будет эти слова говорить… Но когда она уже вошла в большую комнату с этим сводчатым потолком темным, и увидела его на стуле с высокой, прямой и жесткой спинкой, и рядом помощник наклонился над столом и что-то записывал; и она вдруг поняла с облегчением, когда он посмотрел на нее, поняла, что сейчас они чужие, и что не надо говорить ему о сыне, он и сам понимает, что она пришла ради сына, и не откажет…
Он приложил к глазам свои стеклышки в серебряной оправе, глаза его сразу увеличились. Она поспешно отвернулась; она боялась, что эти большие темные выпуклые глаза вдруг сделают его близким ей и будет ей больно. Стеклышки были те, прежние. Он как будто понял ее ощущение и отложил стеклышки на стол.
Он велел ей пройти в соседнюю небольшую комнату через раскрытую дверь, обитую черной гладкой кожей; поднялся сам из-за стола и вышел к ней. Но когда они остались наедине, у обоих еще укрепилось чувство этого спокойного взаимного отчуждения, и они оба совсем успокоились и даже тихо, спокойно обрадовались.
Елена изложила спокойно и ясно обстоятельства дела. Элиас Франк внимательно и умно слушал ее. Когда она замолчала, он сказал:
— Я рад оказать помощь своему сыну.
Голос его был спокойным и доброжелательно-отчужденным.
Разумеется, невозможно было Елене вести тяжбу с монастырем и с человеком, которому покровительствовал Гогенлоэ. Она еще подумала, что, наверное, настоятель помнит, как она, по сути, отказала, когда он предложил ей отдать Андреаса в монастырь. Может быть, сейчас воскресла прежняя обида, и настоятель как бы мстит ей? Но об этом она не стала рассказывать Элиасу Франку. Он подумал и поступил вот как: отправился к самому Гогенлоэ, решив воспользоваться двумя следующими обстоятельствами — первое заключалось в том, что у семейства Гогенлоэ давно уже были натянутые отношения с монастырем, по разным причинам периодически производилось межевание земли и в результате возникли спорные и довольно большие участки; второе же обстоятельство заключалось в том, что один из братьев Гогенлоэ однажды обращался к Элиасу Франку, когда хотел разъехаться с женой и надо было делить имущество, тогда Элиас Франк сумел помочь ему, теперь именно его отпущенник претендовал на наследство, оставшееся после смерти родных Елены.
Элиас Франк уже давно знал, что в некоторых случаях именно правда хороша, маленькая искренняя удобная правда. Кажется, это как раз был такой случай. Элиас Франк отправился к самому Гогенлоэ и честно рассказал, что наследство, которое желает получить Елена, фактически пойдет его, Элиаса Франка, сыну. Он также сумел удачно намекнуть на то, что ведя тяжбу с монастырем в защиту попранного права одинокой беззащитной женщины и ее сына-подростка, к тому же известных своим хорошим поведением, Гогенлоэ и сам будет выглядеть защитником обиженных и униженных, а подобная репутация всегда может пригодиться ему в дальнейшем, когда понадобится ему привлечь людей к себе для каких-то своих дел. Элиас Франк посоветовал Гогенлоэ и судью, своего знакомого, который мог бы разобрать эту тяжбу. Сам Элиас не мог открыто участвовать, все знали, что Елена была его женой, а Андреас приходится ему сыном. Элиас Франк знал, что его открытое участие в тяжбе в пользу сына люди расценили бы дурно. Гогенлоэ отстранил из этого дела своего отпущенника, затем с помощью судьи, знакомого Элиасу Франку, повел тяжбу с монастырем и выиграл ее. Имущество, земельный надел и дом были переданы Елене.
Тяжба продлилась не так уж долго, но даже за это недолгое время успели много пограбить из имущества покойных родных Елены. Это сделали их односельчане, уверенно пользуясь тем, что все это как бы никому не принадлежало. Не осталось ни скотины, ни гусей и уток, земля была не возделана, дом ветшал. Елена решила все это продать здесь же, в деревне, как только вступила в права владения. Сначала ей давали совсем мало денег, но она спокойно принялась торговаться и не уступала, пока не получила достаточную сумму. На эти деньги купила она для себя и для сына хорошее жилье из двух комнат с балконом и удобной кухней; жилье это помещалось в большом высоком доме на самом верхнем этаже, выше был только чердак. Андреасу нравилось, что этот дом не в каком-нибудь бедном окраинном квартале, но в центральной части города, неподалеку от собора, магистрата, домов богатых торговцев, и даже городской дом Гогенлоэ был недалеко. Все это были красивые здания, с красивыми, разной формы окнами и балконами, лепными карнизами, остроконечными высокими крышами. Мостовые содержались в порядке, из окна можно было видеть большую площадь, а с балкона — другую, поменьше, круглую, с фонтаном посредине. В этом фонтане была хорошая мягкая вода, и вечно толпились девушки и молодые женщины с кувшинами. Вечерами появлялись и парни, большей частью молодые подмастерья, и помогали девицам ставить кувшины с водой на тряпичные валики, которые прилаживались на голове. Обстоятельства тяжбы, конечно, стали известны Андреасу, но поскольку мать не говорила ему о них, особо, специально, не спрашивала у него советов, а все как бы шло само собой, независимо от него и даже от матери, то и ранняя его юношеская горделивость не была задета. А когда появились деньги и вместе с матерью (так она захотела) он ходил выбирать жилище, какое лучше купить; тогда и вовсе стало ему приятно и весело. Ему нравилось, возвращаясь вечером домой, подходить к этому своему дому и смотреть на водосточные трубы, сделанные в виде спускающихся книзу драконов, крупно-чешуйчатых и с раскрытыми пастями; нравилась его собственная комната, потому что теперь у него была собственная комната, где стояла и его кровать, и он уже начал обустраивать эту комнату по своему вкусу. Сам изготовлявший красивые дорогие, даже драгоценные предметы, он умел ценить эту вещную красоту, его влекло к ней. И он радовался, постепенно приобретая и заказывая красивое для своей комнаты — весь в мелковитой резьбе деревянный сундук для одежды, которую мать обкладывала маленькими полотняными мешочками с душистыми травами, чтобы приятно пахло; затем еще шкаф с красивыми посеребренными украшениями на дверцах — это для его книг, красивый стул и прямоугольный дубовый стол и вышитую льняную скатерть на него, и бархатное с золотым шитьем покрывало на постель. Но он пока зарабатывал еще не так много денег, и не все, что хотел, мог себе купить. Кроме того, он с большой радостью и охотой заботился и о матери, настоял, чтобы она поселилась в большой комнате, в первый черед эту комнату обставил, подарил матери красивую серебряную цепочку своей работы; то и дело просил ее, чтобы она заказала себе новую одежду — платья и накидки, хотя это последнее удавалось ему с большим трудом, она все говорила ему, что ей не нужно новой одежды, довольно с нее и старой, еще прочной, а украшений, так тем более не нужно, плохо на нее станут смотреть, если она разрядится в новые платья с красивыми цепочками и застежками. Но Андреас сказал, что будет обижен, если она не станет надевать цепочку его работы, за это ведь никто не посмотрит на нее плохо. И она носила эту цепочку и с гордостью говорила даже прежде, чем ее спрашивали, а что это у нее такое за красивое украшение, что это работа ее сына.

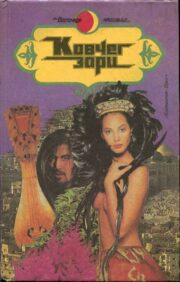
"Наложница фараона" отзывы
Отзывы читателей о книге "Наложница фараона". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наложница фараона" друзьям в соцсетях.